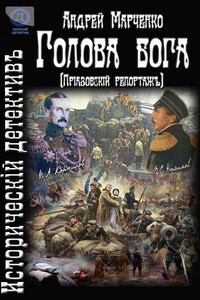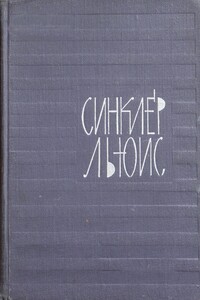– Погубит он нас, – сказал старик, сжимая берданку.
Я на небо посмотрел – туда, где боженька на облаке должен сидеть. Но облаков не увидел, зато аэроплан летел – уж не разобрать чьей системы. Я даже залюбовался. К летчикам в войсках отношение двоякое: с одной стороны, покамест мы грязь месим, они в чистом по небу порхают, с земли их попробуй сбей, зато сами могут и бомбу сбросить и флашетту. С другой, я полагаю, не столь они уж и неуязвимы: крыло отвалится или аппарат загорится – и не спасешься в небе.
– Так что скажешь-то? – старик напомнил. – Упаси нас господь от Петрограда.
– Бог у нас уже старенький, полуглухой, все молитвы не слышит, – отвечаю.
– А ну мне! Не святохульствуй здесь! – старик говорит. – А может, я его из берданки-то шлепну?
– Да нет, у меня другая мысль есть. Должны мы Господу помочь.
И тем же вечером при всех подошел я к вольноперу, говорю:
– Позвольте от нашей роты и от меня лично вручить вам эту революционную кожанку. Вам-то она немного великовата, но потом сядет.
Принял он, конечно, подарок. Руку мне долго тряс.
– Пробудилась, говорит, у вас сознательность! Даже если вас революция разогрела – победим!
А кожанка у меня последний месяц в сумке лежала, ну и, видать, изголодала, поскольку за неделю вольнопер в землю ушел. Думал я его схоронить в той же кожанке, да вот чего испугался: неизвестно, чего наворотили в ней? Может, она вольнопера переварит, корни пустит к другим мертвецам, разрастется под кладбищем… Да лучше уж и правда в огонь.
Старик ко мне подошел, заговорил о покойном. Ну, я ему и выложил про кожанку, первому открылся. Спросил его, не поможет ли спалить.
– И думать забудь, – старик отрезал. – Дурак ты, фельдфебель, хоть и верноподданный, но всё равно дурак. Ты что, думаешь, я тут просто так?.. Ну-ка, вспомни, когда я появился?..
– С год назад, после наступления.
– Олух ты, прости господи. Я тут после того, как вы сбили аэроплан. Пилот был нашим человеком, летел от самой Варшавы. Единственной ниточкой он был к тому хирургу, который корни людям пришивал. Теперь, выходит, тужурка – всё, что нам осталось.
– А чего же было не допросить каждого?
– Опасались мы, что германские шпионы имеются. Но коль всё решилось, давай мне кожанку. За то, что сохранил ее, – будет тебе благодарность и награда.
И кто тогда меня за язык дернул отказать:
– Не отдам, – отвечаю.
И в кармане сжал рукоять пистолетика.
– Вызывай, – говорю. – С наградой своих начальников. А кожанка пока в надежном месте полежит.
Он такого не ожидал, похоже, подумал и ответил:
– Это можно, но не сразу. В стране, сам видишь, что творится.
– Ну, ничего. Дольше ждали.
Сомнение я вот еще какое имел: кроме старика у нас во взводе еще вольнопер появился. К государю у него никакого почтения, в австрийские окопы он шастал за здорово живешь. Может, он с неприятелем какие дела имел – ведь с чего бы ему было про пришивание конечностей беседу вести? Ведь хотел, наверное, каналья, разговорить, чтоб я про чего-то ляпнул не подумав. Но вольнопера уже не спросишь, а друзья у него остались. Может, они тоже ищут след от сбитого авиатора.
Окопы у нас тогда полного профиля были – по ним можно было ходить, головы не пригибая. В бруствере – туровые ниши, в которых шинели, противогазы, патроны с гранатами да всяческий солдатский скарб. А сколько всего можно спрятать за доски, которыми окопы обшиты, – уму непостижимо.
А тут еще новая беда: нащупал я сзади за прокладкой утолщения. В медицине я малость разбираюсь – с нашим фабричным врачом три раза пил. И вот, значит, показалось мне, что кожанка на сносях.
Но, если вдуматься, то не так уж и много от кожанки вреда. От войны, положим, или от революции больше. Разве кожанка виновата, что кого-то она переварила? Не набрасывалась же она на нас, а сами мы ее на себя надевали. Пока я ее носил, яблоками и сыром подкармливал – она меня не особо и трогала. Зато какая польза, если ее приручить! Целые поля, на которых произрастают штиблеты, полушубки. А дальше – больше. Станки сами себя производят, живородящие дома… Дальше больше: ты ее шашкой на шматки порубил – а из каждого куска новая куртка вырастает!