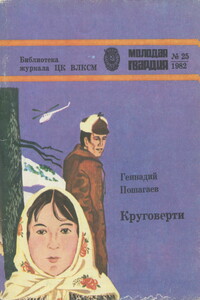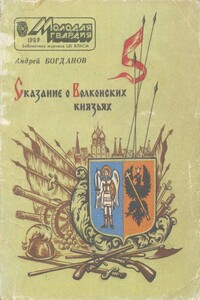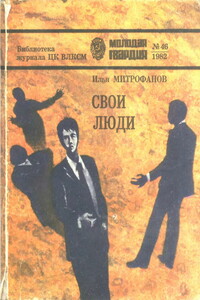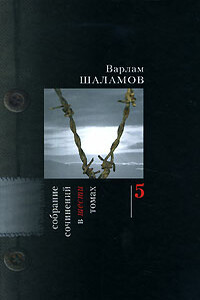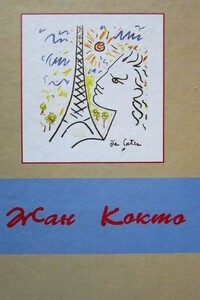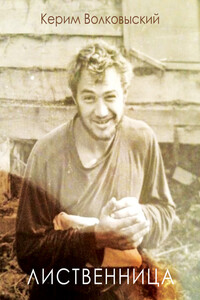На этой земле ему до всего есть дело, его здесь волнует все: древние валуны с таинственными знаками и письменами, археологические находки на бывшем городище Воронич, звери и птицы… Зимой в Михайловском попадаются теперь зайцы, лоси, косули. Не умолкает в аллеях разноголосый птичий гомон. Аисты вьют гнезда над крышей дома. «Заповедная, мемориальная природа должна полниться живой жизнью. Как во времена Пушкина», — говорит Семен Степанович. Он раскапывает у букинистов редчайшие руководства XVIII века по парковому искусству, выводит сорта яблонь, что росли при Пушкине, сажает молодые деревья. лечит старые. Чтобы вновь одеть листвой умиравший от старости и ран знаменитый тригорский дуб, под него уложили в свое время с десяток машин удобрений и поили из пожарных шлангов водой несколько дней кряду. И так во всем: неприметная постороннему глазу, будничная работа.
Конечно, Гейченко возродил Михайловское не в одиночку. Едва разминировали первые дорожки, в усадьбу начали приходить жители окрестных деревень, сами зачастую оставшиеся без крова над головой, предлагая помощь. Поток солдат, катившийся на запад, задерживался у порога Михайловского. Усталые бойцы спешили сделать что-нибудь для заповедника и двигались дальше, унося с собой образ Пушкина — образ Родины. Были и постоянные помощники-энтузиасты. Не иссякала забота государства. Но Семен Степанович оставался душою всего. Сколько сделано им здесь за сорок лет, сколько он еще собирается сделать! Даже тот, кто никогда не бывал в Михайловском, прочитав увлекательные книги Гейченко, в особенности — великолепно изданное, красочное «Пушкиногорье», легко представит подвижнический труд этого беспокойного человека, необходимый нам, необходимый грядущим поколениям.
…Темнеет. В окнах Михайловского дома зажигаются огни. Покрытые инеем розвальни огибают ограду хозяйственного двора. Степенная смотрительница в валенках обмахивает на каминной доске кабинета чугунную статуэтку Наполеона «с руками, сжатыми крестом». И восстановленная нить прошлого, нить времени уводит нас к тому далекому дню 1817 года, когда лицейским выпускником вбежал Пушкин под сумрачную сень еловой аллеи Ганнибалов…
Где чувствовал он себя более одиноким — в великосветских салонах Петербурга, в гостеприимных московских гостиных, в тесной комнатушке убогого Кишинева, на бальном паркете одесского дворца наместника или же в занесенном пургой Михайловском при неверном свете свечи над столиком с рукописями? Если для биографов первая встреча поэта с его «приютом спокойствия, трудов и вдохновенья» — эпизод, полный «белых пятен», то о втором их свидании мы знаем все или почти все. Но и первая встреча прочно отложилась в его и в нашей памяти.
Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
И уже в этих строках, написанных задолго до трагических событий 14 декабря, мы ощущаем ту легкую грусть, к которой позднее прибавятся горестная печаль и тяжкие разочарования.
Вторично мы видим Пушкина в Михайловском уже кумиром новой России, поэтом, чье имя было на устах не только столичной молодежи, но и всех, кто болел за судьбы отечественной культуры в самых отдаленных уголках огромной, готовящейся к социальным потрясениям страны.
Он прожил большую жизнь между первым и вторым приездом в Михайловское. Он стал знаменитым, он стал гонимым. И ко времени ссылки в Михайловское сравнялся уже с поэтами несравненными, всемирно известными, однако по значению для своей родины уступавшими ему.
Казалось, что мог бы он еще испытать, достигнув таких вершин, такого духовного напряжения? Он бросил вызов «милорду Уоронцову». Он пренебрег карьерой, гневом царя, в каждый день своего пребывания на юге оставаясь самим собой. Заставить его жить не так, как он хотел, было невозможно. Это бесило недругов, которые не могли вынести его свободной человеческой простоты, его острого языка, политических выпадов, его всеохватывающей и всепроникающей мысли. И отторгнутый ими изгнанник приезжает в Михайловское, не уступив своим врагам ни пяди завоеванного, в ореоле поэтической славы, скорее им осознаваемой внутренне, подспудно. Он приезжает уставшим от бедности и скитаний, но не утратившим мужества, приезжает зрелым, готовым к борьбе. Нет, он не ожесточился. Его душа не угасла, не потеряла способности верить, надеяться, любить.