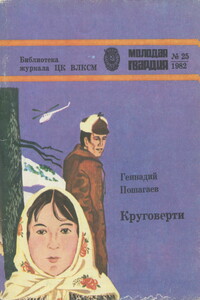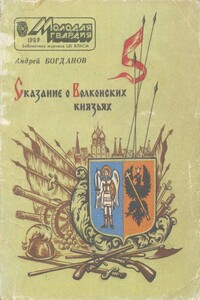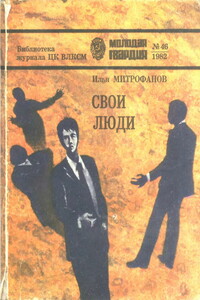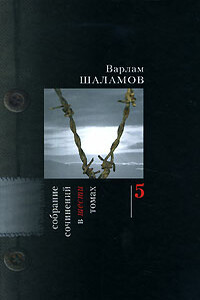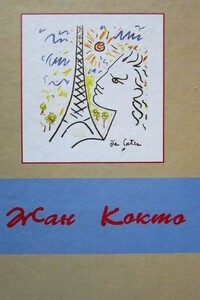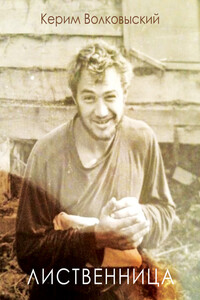Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
. . . . . . . . . .
В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.
Михайловское окутало его тишиной, неоглядными далями, туманными влажными рассветами, непроницаемыми ночами и дрожащим сиянием луны, что висит тут прямо над подоконником. Он пишет с неистовой страстью, пишет много и разное, пишет вещи бесценные. Он продолжает начатое в Кишеневе, Одессе; и одиночество, непереносимое для других, отступает перед ним и даже делается порой источником веселья, неотделимого, правда, от грусти и тоски.
Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я
разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца
руку
И пожелать веселых много лет.
И вместе с тем:
И первую полней, друзья,
полней!
И всю до дна в честь нашего
союза!..
Вот пример, когда противоречивые чувства сливаются в драгоценный поэтический сплав, который поистине можно назвать «михайловским».
Да и разве один был он здесь? Нет. Он наслаждался природой, изучал нравы онегинских соседей, засиживался в тригорской библиотеке, наблюдал быт крестьян и монахов, ходил по святогорским ярмаркам, прислушивался к милому его сердцу говорку Арины Родионовны… Нет, он был здесь не один, а просто наедине с собой. И этот поразительный взлет — ведь здесь он создал своего Бориса, Бориса, который вывел его на простор общественного служения и высокого историзма, — этот торжествующий пушкинский взлет позволил ему совладать с тем состоянием, которое могло бы надломить другой, менее мощный дух. Бесконечными зимними вечерами одиночество бежало от него еще и потому, что он знал: о нем думают, его помнят. «Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты», — пишет «великому Пушкину» в михайловскую глушь его «Дельвиг милый». «…По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе», — летят к нему в ноябре того ясе 1824 года горделивые слова Жуковского. «Ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы… — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?» — требовательно вопрошал Рылеев.
Их было всего двое, навестивших его здесь. Иван Иванович Пущин, совесть русской интеллигенции, совесть декабризма, провел в Михайловском счастливые часы, внимая голосу друга, читавшего отрывки новых пьес, диктовавшего начало «Цыган» для «Полярной звезды». И беспредельная доброта, душевное благородство и ум Антона Антоновича Дельвига озарили на миг деревенскую келью поэта. Их было всего двое. Но каждое из этих посещений — эпоха!
Да, ему не удалось явиться на Сенатскую. Но стихи Пушкина, его тень незримо присутствовали там, заставляя следствие раз за разом допытываться у арестованных о ссыльном поэте. И когда мы думаем о декабристах, мы вспоминаем не только чеканный слог послания в Сибирь, написанного позднее, уже в Москве, но и михайловский на полях рукописи рисунок виселицы с контурами пяти повешенных и оборванной строкой: «И я бы мог…»
Есть некий особый смысл в том, что Пушкин окончил «Бориса Годунова» осенью 1825-го, предшествовавшей восстанию декабристов. Есть некий особый смысл в этих грозных призывах: «Народ! народ! в Кремль! в царские палаты!» И есть некий особый смысл в том, что михайловские мужики, навеявшие Пушкину многие образы бессмертной драмы, спустя двенадцать лет бережно опустят его гроб в могилу.
Да, душою он был с восставшими и сказал о праве народа жить достойнее, чище за несколько месяцев до того, как российский трон закачался не под ночными ударами мятежных гвардейцев, а перед открытым выступлением общественной оппозиции.
Через восемь месяцев он покинет свой дом. Не вдохнет больше запах увядшей листвы на ступеньках веранды, не увидит петляющие в сугробах беличьи следы, не пойдет привычной дорогой к соседям в Тригорское и не услышит звенящий в саду девичий смех… Липовая аллея Керн, тенистая прохлада «дуба уединенного», волнистые пажити у Савкиной горки останутся без него. И долго еще будет светить ему в пути теплый огонек родного Михайловского, согревая в горестях и невзгодах последнего десятилетия.