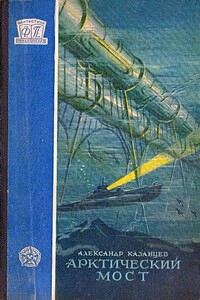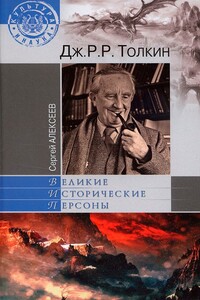Отвлечься Костя хотел от тяжкого общения с вернувшимся пьяницей-сыном Алешей.
— Ты надолго? — строго спросил отец.
— Нездоров я, отец… И вот к маме… и к тебе…
— А как же работа твоя в Уфе?
— Нет у меня никакой работы, — махнул тот рукой.
— Ты же физкультуру преподавал.
— А-а! Шибзики! Выпить, видите ли, шиша им, нельзя. Выгнали меня.
— Когда? Почему отца не вызвал?
— Да, давно это было. Да и не предков это дело. Друзяги захохотали бы.
— И где ж ты работал, чем жил?
— Да нигде. На угощениях перебивался… Подносили…
— И не стыдно тебе? Бабы что ли?
— И бабы тоже… Больше друзяги…
— То-то ты прощелыгой таким выглядишь.
— Прощелыга — это по нашему… принимай, отец… каков есть… не выгонишь поди… как те шибзики.
— Как это можно выгнать сына родного, несчастненького, — вмешалась вошедшая при последних словах Алеши мать его Нина. — Что мы звери какие? Выгонять дитятко свое. Пойдем, Алешенька, я тебя вымою, а то ты коростой покрылся.
Так вернулся блудный сына. Отец написал четыре гневных строчки стихов и прочел их сыну.
Твой Разум — высшее даренье
И утопить его в вине –
Свершить не просто преступленье,
А стать ничтожеством на дне!
— Все стишками перебиваешься, — скривив рот, усмехнулся сын. — И много фити-мити перепадает?
Костя молча разорвал исписанную стихами бумагу в клочки…
На нервной почве из-за единственного любимого сына у Нины случился инсульт, и ее парализовало. Больной и неумелый сын ничем не мог помочь матери, и вся тяжесть домашних забот обрушилась на Костю. Пришлось ему стать и кухаркой, и сиделкой, и прачкой… И он отдавал семье все силы.
Но от этого не стало легче. Запущенная болезнь Алеши неотступно сказалась, и он умер, несмотря на всю заботу и старания отца. А несчастную мать потрясенную нелепой, ранней смертью сына, еще раз поразил инсульт, и ее нежную, недвижную, такую легкую, что Костя без труда носил ее на руках, вскоре тоже не стало. И несчастный муж и отец был теперь один одинешенек. А друг Саша так далеко…
“Вот, дорогой мой старче, — несмотря ни на что, писал ему Костя, — уподобился я отшельнику в пустыне, отличаясь от него тем, что он ушел в свою пустырь, оставив все в миру, а я потерял все, остался в старых стенах, горестно шепчущих мне о былом… И сохранилась только почтовая нить, связывающая меня с тобой, позволяющая мне жить твоей полнокровной жизнью, твои интересы — одни лишь для меня. И я пересиливаю себя и перехожу на твои рельсы, отвечая на твое последнее послание, с чем так невольно задержался. Не хочу сейчас ни о чем другом думать.
Спасибо, старче, за присланные главы нового романа. Я твой усердный и неравнодушный читатель. Конечно, расшифровка эпитафии на могильнике Диофанта любопытна, и ты, по обычаю своему, бросаешь вызов ученым-ортодоксам, считающим, что Диофант жил в третьем веке. Не допускаешь, что слова “По воле богов…” в надписи могут быть поэтической вольностью? У тебя утверждение Пьера Ферма создает его образ. Это говорит о его смелости, но не кажется мне главной чертой его характера. Он обрел мировую известность, как это ни странно, не своими открытиями в математике, знакомыми лишь специалистам, и не тем, что можно сделать, а тем, чего никому сделать не удается, чем Кожевников сумел и тебя заинтересовать. Письмо его отлично помню. Не думаю, что сам Ферма придавал наспех записанной теореме такое значение, какое она обрела в столетиях. Но если ты сделаешь в своей книге математическую тайну Ферма одной из основ повествования, то я гарантирую тебе успех, не только у рядового читателя, который заинтересуется самим Ферма, с умом острее шпаги, но и множества любителей математики. Жди потока писем от тех и других. Передай привет своему собрату по перу и шахматному партнеру Владимиру Андреевичу. Хоть и давно это было, но я с гордостью храню сделанную тогда же по памяти запись выигранной у него шахматной партии. А “литературную партию” о портретах с натуры, считай, ты у него выиграл.
Жму, старче, твою постоянно замахивающуюся на новое лапу. Твой горький отшельник Костя”.
Сколько внутренней силы надо было иметь человеку, чтобы в его состоянии написать такое письмо!