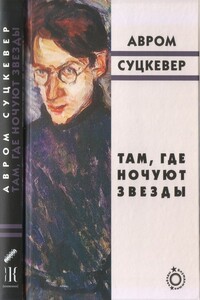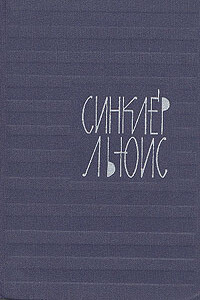— Если вы хотели меня видеть, вы могли прийти ко мне. Ваши сыновья разыграли передо мной целый спектакль.
— Этого-то я и хотел. — Он подпрыгивает еще веселее. — Я хотел, чтобы ты услышал, как мои домашние меня обзывают, и понял, почему я не стал тем, кем мог бы стать. Сегодня они из кожи вон лезли, чтобы устроить скандал. И не дали своей маменьке убраться в доме. Именно сегодня в кои-то веки она собралась это сделать, а ее деточки велели ей сидеть у печки и возиться с горшками. Как вы видели, она всегда рада на меня наорать, и сыновья следуют ее примеру.
— Но почему? — горестно восклицает мама. — Ведь ваша Фейга сама просила меня зайти.
— Не вас, Веля, не вас они имели в виду. Его они имели в виду. — Залман показывает на меня. — Фейга сказала, что он придет с вами, и они раскричались: «Он, конечно, воображает, что этим осчастливит нас, так мы ему покажем, что для нас он не такая уж шишка». Хотя Фейга делает вид, что смеется над прежними фантазиями, ее все-таки мучит то, что ее сыновья не стали художниками, а превратились в торговцев старыми мешками. И виноват, конечно, я. Так ты пойдешь со мной? Даю тебе честное слово торговца чулками, что не буду вести с тобой идеологические беседы и сыпать рифмами.
После теплого приема, устроенного нам в доме Залмана, мама не хочет вмешиваться, но, увидев, что я согласен пойти с нашим бывшим соседом, она заметно веселеет. Мама считает, что иной раз можно оказать человеку большую услугу, просто выслушав его.
— Куда пойдем? — спрашивает Залман после того, как мама уходит. — В Хлев или на Новогрудскую?
Всю дорогу от улицы Стекольщиков у него не закрывается рот. Он то и дело останавливается и указывает мне на окрестные дома:
— Виленский гаон покорил мир своей ученостью, а Авремеле-слепой хотел покорить мир своей игрой вслепую. Во время войны он обычно стоял здесь на улице, играл на скрипке и собирал пожертвования. Когда он подрос, он стал играть на гулянках. За деньги, что он зарабатывал и что ему подавали сердобольные дамы, он пошел учиться к профессору. Он мечтал стать большим музыкантом и не нуждаться в подачках доброхотов. «Когда меня жалеют, у меня лицо пылает от стыда», — так, бывало, говорил Авремеле-слепой. Я слышал его слова: «Это красавица, а это дурнушка». Похоже, даже к слепоте можно так привыкнуть, что как бы забыть о ней. Он хотел, чтобы мы забыли, что он слепой, и говорил, как все молодые люди: «Это красавица, а это дурнушка». С тех пор как я вернулся из Крейцбурга и Якобштадта, я его не видел. Может быть, ты знаешь, что с ним стало?
— Он живет в районе Антоколь, в доме для слепых. Иногда я вижу его вместе с другими слепыми. Они держатся за руки и нащупывают дорогу палками.
— А что стало с его игрой?
— Я не слыхал об этом.
— То есть ничего не получилось, — мрачно растягивая слова, говорит Залман. — Видишь, в том дворце останавливался Наполеон, когда он шел на Москву. Чтобы я, Залман — торговец чулками, не забыл об этом, здесь прикрепили мраморную доску: «Ту мешкал Наполеон»[156]. Но у него тоже ничего не получилось. Его разбили подчистую. — Залман воспламеняется, разгром Наполеона словно служит ему утешением. — А тут, напротив, университет Стефана Батория. Ведь мои сыновья должны были учиться в Академии искусств. Мой Юдка говаривал: «В панской Польше бедному мальчишке невозможно стать художником». Вот он и отправился в Россию. Знаешь, что я тебе скажу? — Залман снова останавливается посреди дороги. — Меня совершенно не волнует то, что мой Юдка гниет в угольной шахте или где-то еще. Меня это совершенно не волнует! Раз он мечтал стать художником, он должен был им стать. Если бы я сам чего-нибудь достиг, я бы жалел неудачников. Но поскольку сам я остался ничтожеством, как меня титулует Фейга, я ненавижу людей, потерпевших поражение. Если уж ты взялся за что-то, покажи, на что ты годен.
Залман кусает губы. Его руки дрожат и трепещут, словно хотят оторваться от своего владельца и улететь.
— Ты ходишь иногда в городскую синагогу послушать кантора? — спрашивает он с дикой злобой и, не дожидаясь моего ответа, выкрикивает: — А я не хожу! Я не хочу его слушать, пусть он меня слушает!