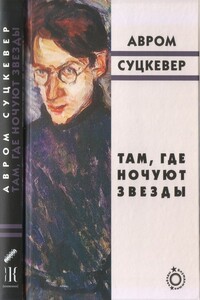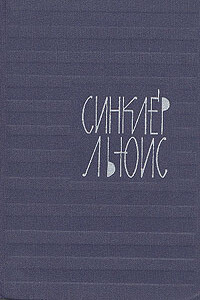— Вы же не умеете петь.
— А и не надо! — кричит он еще громче. — Если он умеет петь, то пусть сам себе и радуется, при чем тут я? Значит, я должен хвалить кантора, должен аплодировать актеру, должен снимать шапку перед надутым писателем, — а кто мне окажет почет? Кто меня похвалит, кто будет мне аплодировать, и кто передо мной снимет шапку? Когда я продаю на улице чулки и при этом распеваю свои песенки, я знаю, что меня слушают, хотя надо мной и смеются. Ты скажешь, что я готов быть комедиантом, лишь бы на меня обратили внимание. Ты так и скажешь! Но меня это не волнует!
Мы входим в аллею городского сада. Залман садится на скамейку и смотрит на скамейку напротив, где сидит молодая пара. Одну руку женщина держит на коленях мужа, а другой толкает взад-вперед детскую коляску. Обложенный подушками ребенок тянет пухлые круглые ручки с розовыми пальчиками и хочет схватить маму за нос, за щеки, но в тот момент, когда он почти хватает ее, коляска отъезжает. Ребенок хлопает в ладоши, смеется, а его мама тает от счастья.
— Вот она жизнь! — тыкает в них пальцем Залман. — Но потом этот ребенок вырастет, протянет руки, а коляска поедет назад, и напротив не будет мамы с сияющей улыбкой. Тогда ребенок перестанет смеяться, он начнет плакать и скрежетать зубами.
Пряча лицо, словно на дворе зима, в меховой воротник своего длинного пальто, медленно, усталым шагом проходит мимо пожилая женщина в шляпке. За ней идет мужчина в черном, в жесткой шляпе и с тросточкой в руке. Он не спешит, словно охраняет слабую пожилую женщину. Залман смотрит им вслед и бормочет, обращаясь скорее к себе, чем ко мне:
— Фейга права. Она упрекает меня в том, что после свадьбы я оставлял ее одну укачивать Юдку, а сам уходил куда-ни-будь в парк дискутировать. Тогда я с ней не ходил, а теперь она со мной не пойдет. Понимаешь, эта молодая пара с ребенком будет и на старости лет гулять вместе, как вот эти старик со старушкой.
— Вы напрасно мучаете себя, Залман, — говорю я ему, видя печаль, которая чуть ли не каплет с его бороды. — Я не знаю ни одного человека, который сказал бы, что он достиг всего, чего хотел. Несмотря на это, люди не считают себя неудачниками. К тому же я не думаю, что вы так уж много потеряли, не став актером или писателем. Я имею в виду, не став писателем, который печатается.
— Даже напечатать то, что пишут другие, я не могу, — покорно говорит он и мрачно смотрит вдаль. — Когда я был печатником, наборщики называли меня калекой. Думаешь, я хотя бы был революционером? — Он резко поворачивается ко мне и снова пылает гневом. — Фейга еще не знает, каким героем я был до того, как она вышла за меня замуж. Если бы она знала, она плевала бы на меня еще тридцать лет назад. Вот послушай и тогда поймешь, почему я люблю себя, как резь в глазах. Я даже не попрошу тебя не рассказывать об этом Фейге и моим детям. Если хочешь, чтобы они надо мной посмеялись, то, пожалуйста, рассказывай.
Я был юным эсдеком с длинными волосами и все время гулял с книгой под мышкой. Короче, — кричит он и размахивает руками, словно подгоняя незримого зануду, замучившего его непомерно длинной историей, — захожу я однажды за булкой к одному пекарю-турку. Вижу, на земле поблескивает серебряный гривенник. Я себя спрашиваю: что должен сделать эсдек, если он видит на земле десять копеек? Что в этом случае должен сделать освободитель мира, как называют меня мои дети? Я тебе скажу, что я сделал. Я поставил на гривенник ногу. Хозяин это заметил. Выходит он из-за прилавка, наклоняется и велит мне поднять ногу. Я делаю вид, что ничего не понимаю, то есть что я тут вообще ни при чем, и отступаю в сторону. Поднимает он гривенник и смотрит на меня с колючей улыбочкой. Может быть, при обычных обстоятельствах он бы просто плюнул на меня и выгнал, но поскольку он видит, что я ношу длинные волосы и у меня книга под мышкой, то есть что я из интеллигенции, стремящейся скинуть царя и отобрать у него, у этого турка, его пекарню, он хочет меня проучить, показать, что я червь. Короче, меня бросили в камеру вместе с пьяницами, мелкими карманниками и воришками, таскающими бублики. Я просидел там неделю, а потом меня выгнали. Все то время, что я провел в каталажке, я трясся от страха, что в камеру приблудится какой-нибудь политический и спросит меня, за какие такие героические свершения меня схватили, в какого министра я бросил бомбу. Смеешься? Ну да, я вошь.