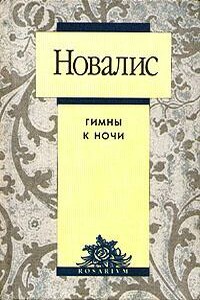За дверью сказали пароль, и в комнату вошел человек небольшого роста. За ним стоял кто-то еще. О чем-то зашептались.
Все молчали.
Пришедшие вскоре покинули комнату.
— Товарищи! — сказала девушка, когда те ушли. — В Варшаве объявлено военное положение. Генерал-губернатор приказал солдатам стрелять при малейшем скоплении народа!
— Товарищи! Стоит понести некоторые жертвы ради такой демонстрации! Улицы неистовствуют! — раздался голос одного из видных товарищей.
— Несомненно! — откликнулись другие голоса, как если бы жизни человеческие здесь отсчитывали, как горошины…
Я тихо спросил у своего товарища, можно ли мне выразить свое мнение. Несколько строгих взглядов устремились на меня.
— Товарищи! — сказал я. — Каждая человеческая жизнь — это святыня сама по себе, отдельный мир. Нельзя делать ставку на чью бы то ни было жизнь, как бы священна ни была цель, ради которой такая ставка делается. Я властен только над своей жизнью, но ни в коем случае не над чужой…
На меня налетели со всех сторон:
— Нам не нужна жалость!
И, может быть, они правы.
Они — путеуказчики, строители нового мира, и каждый — всего лишь кирпич, нужный для строительства этого мира. А я — разбитый, нищий певец, я в каждом человеке вижу индивидуума, отдельный мир сам по себе… Мне неохота больше говорить.
Товарищ увел меня отсюда.
Я долго бродил по улицам, много раз меня останавливали, проверяли паспорт, то и дело попадались навстречу патрули, которые вели людей в участок. Я носился как сумасшедший, но в конце концов добрался до своего жилища…
Поднялся по высокой темной лестнице. И в сердце и в голове стучало:
— Завтра — к Павиаку!
Уставший, я повалился на кровать и долго-долго смотрел в ночную тьму. Кажется, о чем-то думал.
Но о чем — не помню.
Понедельник.
Солнце глядело в окошко, заливая светом мое убогое жилище, и сердце нехотя заволновалось.
— Вставай!
Меня будто снесло с лестницы. Вышел на улицу. Лавки закрыты, витрины заколочены. Люди толпами бродят по тротуарам, спокойно, сдержанным шагом, держась за руки, плечо к плечу. И кажется, что во всей этой массе людей живет одна душа, душа единства…
Подходит человек, молвит слово и исчезает. Никто не знает, как и почему, но люди уже сошли с тротуара, заняли улицу и шагают.
Две шеренги высоких домов тянутся по обеим сторонам улицы и теряются где-то далеко в тумане. А между обеими шеренгами — народ, море голов.
А над морем плывет, словно парус, красное знамя и указует путь.
Не золотом тканное, не богато украшенное — это рабочее знамя. Темной ночью во мраке погреба мать-Нужда сучила нитку, сестра-Чахотка (с табачной фабрики) заправила нитку в станок, а братец-Голод ткал полотнище знамени.
В кровь макали нитки, в кровь убитых, в кровь нищих, затравленных нуждой и безысходной бедностью.
Развевайся, шуми над морем голов, Нищета! Оттачивай слово свое и кинь его людям в лицо! Слово сильное и твердое, как молот твой, как рука твоя!
Из тысяч грудей — один зов, один крик, один глас: «Клятва», как слово божье, как вихрь, вырвавшийся из скопища ветров, несется по улице. Отдельного человека не стало: каждый сделался частью, частицей того большого, что в пламени единения необычайной, неведомой силой слито в единое целое.
Празднуй, беднота, свой праздник, свой красный праздник — праздник твоих убиенных!
Появились солдаты.
Рота. На минуту они остановились. Остановилось на минуту и шествие. Как будто ничего не произошло: массы слились и притихли. Две силы с минуту смотрели одна другой в лицо.
Еще не знали, началось ли уже… Еще не поняли, что случилось. Какой-то ветер пронесся над нашими головами.
«Тр-р-рах-х-х!..»
То в одном, то в другом месте люди пригнулись к земле, так что в море голов образовались провалы.
«Тр-р-рах-х-х-х!»
Ветер сорвал с меня шляпу.
Мой товарищ Аврам клонится книзу.
— Что с тобой?
Не отвечает.
— Ищешь что-нибудь?
Ноги его скользят по мостовой.
Наклоняюсь, щупаю… Что-то течет у меня по руке,
— Что такое?
Кто-то повалился на меня.
Моя голова упала на что-то мягкое…
Очень темно в глазах…
Среда.
Раннее утро.
Мир еще погружен в полумрак, то тут, то там из тумана высвобождаются ряды высоких домов — улица.