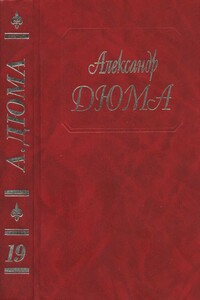Берл знал ее давно. Еще детьми, будучи соседями, они играли вместе. Когда же подросли — стали чуждаться друг друга, а став взрослыми, поняли, что не могут обходиться один без другого. Парня задела за живое та самая «изюминка», что таилась в ее существе; разговаривая с ним, она пускала в ход все свои чары, и он слышал запах духов, которыми она кропила свою грудь… Он смотрел на нее с нежностью, а она говорила с ним наполовину по-польски, очень элегантно вставляя в каждую фразу словечко «вшак»[47]. Рассказывая о преподавателе танцев, поселившемся в местечке, спрашивала:
— Вшак пан таньчи?[48]
Это звучало так благородно!
Ее слова производили на парня большое впечатление. И хотя разговор тут же переходил на еврейский язык, польское слово «пан», произнесенное ею, крепко застревало в памяти.
А в летнее время, когда Берл гулял с Рахилькой в городском саду и покупал для нее у садовника розу, она нюхала, и разговор переходил на тему о розах… Это было так возвышенно, так. красиво, так благородно!..
Лейзер Шпилитер знал, что делает. Запретив парню встречаться со своей дочерью, он еще сильнее разжег любовь Берла. Рахилька теперь казалась молодому человеку еще красивее. Он буквально изнывал от тоски, бродя каждый вечер возле крылечка и кусая губы от возбуждения. Прохожих он стеснялся — ведь они его знали, полпереулка слышало о его любовных муках. Приходилось прятаться в сенях напротив крылечка и оттуда вести наблюдение. А Рахилька «чувствовала», что он там стоит, и высовывала голову. Берл видел ее глаза, взгляд и ласковую улыбку, скользившую по губам, видел бледно-розовые щеки — и все это предназначалось ему, и во всем этом было столько нежности, что у парня по жилам разливалась теплота. Радостная улыбка растягивала его полные губы, обнажая крепкие зубы. Но тут головка исчезала, и из окошечка над крылечком что-то падало. Это было письмецо, в котором пряталось несколько лепестков розы и говорилось о «луне», о «звездах», о вечной «небесной любви» и «ангелах». И все это было так возвышенно, так прекрасно, так благородно, что парень, ложась спать, осыпал эту записку поцелуями своих толстых губ, совсем, казалось бы, не созданных для таких нежностей…
В общем, ничего не помогло. Спустя несколько недель состоялась помолвка, а там и свадьба.
Когда Берл, оставшись наедине с молодой женой, увидел, как она раздевается, его охватило какое-то неясное чувство страха. Одна юбка за другой спадали с нее, пока не показались тонкие, как у ребенка, ножки, которые, казалось, вот-вот под нею подломятся. Но глаза Рахильки улыбались, губы пламенели, и молодые погасили свет.
Однако чувство страха не оставляло Берла еще много дней. Глядя на жену, хлопотавшую в кухне, видя, как она двигается, он не мог избавиться от ощущения тревоги за ее тонкие ножки — а вдруг не выдержат? Увидав однажды Рахильку, быстро сбегающую с лестницы, он удивился. Ее ноги довольно легко справлялись с тяжелой ношей. И все же, боясь за нее, он кусал губы.
Да и дом, который она убрала и обставила после их свадьбы, был под стать ей: стол и стулья держались на тонких точеных ножках и казались настолько непрочными, что парень, опасаясь, как бы стул под ним не развалился, не решался на него сесть. Вообще все в доме было как бы рассчитано на ребенка. Берлу порой казалось: вот-вот все упадет и разобьется. Перед зеркалом были расставлены фарфоровые тарелочки и всякие хрупкие вещицы, и каждый раз, когда он подходил к зеркалу, что-нибудь обязательно падало и разбивалось…
— Все здесь на курьих ножках держится! — кричал Берл.
Жена в таких случаях бледнела, глаза загорались. (Со времени свадьбы ее лицо еще больше побледнело и осунулось.) Казалось, глазам не в чем держаться на этом бледном лице и они, чего доброго, выпадут из глазниц… Берла охватывал страх, он закусывал губы и бил себя по щекам.
— Я свинья! Я подлец! Я больше не буду!
Обессилев, она садилась на кушетку, шумно вздыхала, и на ее бледном лбу выступали капли пота.
Это волновало Берла. В нем пробуждалась к жене такая жалость, что он бросался на пол и бил себя по лицу.