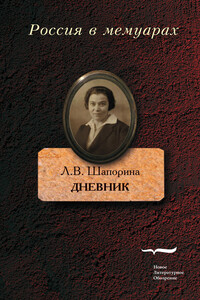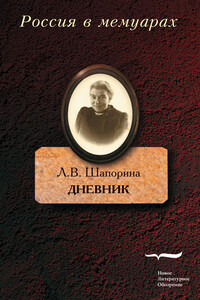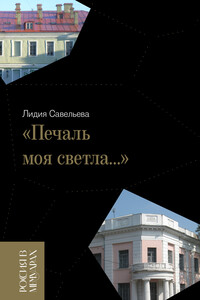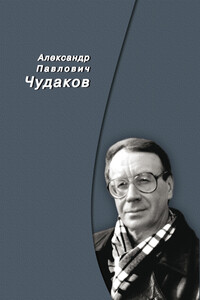Приглашение к диалогу на материале Достоевского Штейнберг осуществлял и в беллетристической форме, в упомянутой уже пьесе («повести в 4 действиях») «Достоевский в Лондоне» (1932). В основу сюжета Штейнберг положил вольно истолкованный эпизод из жизни писателя: приезд его в Лондон для встречи с Герценом. Историко-биографический жанр позволял выразить несколько метафорических смыслов. Встреченный с уважением Герценом, Достоевский вступает в полемику с ним, Лассалем и Марксом. Он угнетен техническим прогрессом («трезвон, визг и вой машин»), испытывает к тому же муки ревности из-за сопровождающей его Аполлинарии Сусловой и «спускается в народ», в лондонскую портерную, но скоро убеждается в царящей и здесь, в демократических низах, жестокости. Социально-экономические пути возрождения представляются ему несостоятельными, духовные же возложены провидением на Россию: «Так-то оно и выходит: не нам Европа, а ей одна только Россия осталась, коли воскреснуть хочет». В возгласах бьющегося в эпилепсическом припадке писателя: «Братцы родимые! Ну, чего вы, чего? Чего стали, чего столпились! Что наболело? Скажитесь, откликнитесь, родимые! — Молчат, молчат. Сами не знают. Точно гул растет, нарастает. Ммммм… ммммм… Все сильней и сильней… Языки вспыхивают, красные, огненные… И тихо, тихо стало! Как вдруг тихо стало! <…> Бери, жги, руби… Новое, все новое строить будем… Хрустальный дворец строить будем… (молния и потрясающий удар грома; Достоевский бьется в конвульсиях на полу)»[60] — звучал намек на великое российское прошлое: «Россия-ураган, которая на пути своем весь мир опрокинуть может» и предсказывалась близящаяся мировая катастрофа.
В межвоенные годы Штейнберг старался следовать традициям «Логоса» и налаживал контакты с европейскими интеллектуалами; он побывал на Гегелевском конгрессе, состоявшемся в Берлине (октябрь 1931 г.), где встретился с Д. Чижевским, Л. Штраусом и Г. Лукачем.
Столь же важным он считал установление диалога между конфессиями. В 1932 г. Штейнберг вступает в переписку со своим гейдельбергским однокашником Ф. Степуном, одним из редакторов издававшегося в Париже эмигрантского религиозно-философского журнала «Новый град» (кроме него журнал редактировали И. Бунаков-Фондаминский и Г. Федотов). «…Мы ведь с Вами не виделись чуть ли не с далеких гейдельбергских времен», — писал ему Степун в ответном письме от 6 июля 1932 г. и, по-видимому, отвечая на вопрос Штейнберга, позволено ли неправославным сотрудничать в «Новом граде», замечал: «Вы по духу очень близки нам». Кроме того, он выражал неподдельное изумление тем, что о книге Штейнберга «не встретил ни одной рецензии в эмигрантской прессе». Желая восполнить этот пробел, Степун пообещал опубликовать немецкий перевод «Достоевского в Лондоне», расширить читательскую аудиторию «Системы свободы Достоевского». В 1932 г. сделать это было трудно[61]. Уже после переезда Штейнберга в Лондон усилиями ряда философов с европейскими именами, которые прислали в швейцарское издательство в Люцерне «Viva Nova Verlag» рекомендательные письма: К. Нотзеля (автора известной монографии о Достоевском, изданной в Мюнхене в 1924 г.), Л. Карсавина (написавшего, что это «лучшая русская книга о Достоевском»), К. Ясперса (назвавшего ее «выдающимся достижением») и Л. Шестова («Эта книга на немецком языке получит широкое признание»), — немецкий перевод книги увидел свет[62]. Провозглашение идеи свободы в разгар нацистской истерии в Европе стало важным контекстуальным обстоятельством исследования Штейнберга о Достоевском.
Не оставляя русскую культуру, Штейнберг сосредотачивается на еврейской истории классического периода, истории еврейской философии, стараясь подчеркнуть ее общечеловеческий смысл. В 1923 г. эпиграфом к «Системе свободы Достоевского» были взяты слова А. Белого: «…об Адаме, о рае, об Еве, о древе, о древней змее, о земле, о добре и зле…» — разницы между фразой поэта-символиста и книгой Творения (Берейшит) Штейнберг не видел. История еврейского народа — модель мировой истории вообще и каждого человека в отдельности — такова была идея многих европейских философов, желающих достичь синтеза культур и религий. В одном из выступлений, относящемся к несколько более позднему времени, но отражающем присущее Штейнбергу мировидение, он так определял место и задачи народа Израиля в мировом универсуме: «Участвовать в этой великой работе по освобождению человеческого духа от пут экономической гравитации, то есть от чисто земных и физических условий человеческой жизни; внести свой вклад в поднятие человека на тот уровень, на котором должен был находиться Адам с момента своего создания, на уровень свободного гражданина Божественной Вселенной; следить, чтобы эта цель оставалась предельно ясной для всего человечества <…> вот для чего Израиль помещен среди остальных народов»