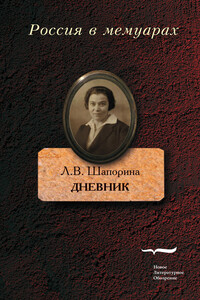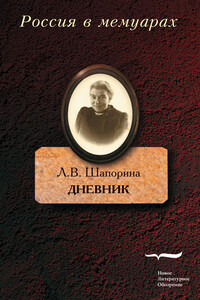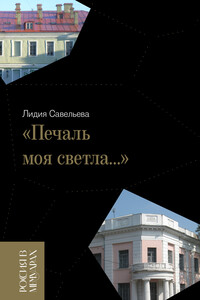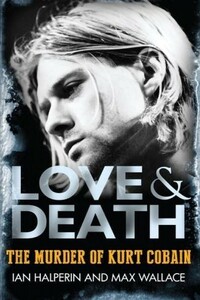Литературный архипелаг - страница 11
Берлинская эмиграция Штейнберга кончилась так же, как и российский период, — второй вынужденно-добровольной эмиграцией. После прихода Гитлера к власти в 1933 г. стали стремительно распадаться союзы, исчезать просветительские организации, закрываться издательства. Друзья метались в поисках приюта и заработка: З.Б. Рабинков собирал документы для переезда за океан, Я.С. Клейн слал отчаянные письма из Марбурга и Праги, С.Н. и Ф.Я. Капланы — из разных мест. Штейнберг тоже искал пристанища. Среди вариантов была Палестина, где жили его кузены Мордехай и Шмуэль Фридманы. Но Штейнберг не видел для себя будущего в провинциальной, удаленной от культурных центров стране, а сионизм не казался ему оптимальным решением судьбы еврейского народа.
Вернувшийся из Лондона в Ковно другой кузен Штейнберга, Исаак Донской, писал ему 18 февраля 1934 г.: «Во многих отношениях Англия и Лондон как раз теперь, как раз при данных условиях, — несомненный optimum. Но не всем может удаваться этим optimum’om пользоваться»[64]. Аарону удалось, 8 февраля 1934 г. началась его вторая и последняя эмиграция.
В Лондоне была возможность продолжать просветительские проекты: издавать идишистский еженедельник, готовить сокращенное трехтомное издание «Всемирной истории еврейского народа» С. Дубнова. Сам историк вдохновлял письмами из Риги: «Развивайте „свободное слово“ в век, враждебный свободе, который надеется на нас», — писал он братьям Штейнбергам, издававшим еженедельник на идише «Dos Fraye Vort» («Свободное слово»)[65]. Кроме того, Штейнберг начал писать рассказы «на языке Переца и Абрамовича». Услышав отзывы слушателей, убедился, что у него есть «некоторое умение передать и Ruhrung, и Spannung» (умиление и напряжение) — может быть, он «не зря в юношеские годы колебался между поэзией и философией», и теперь «фантазия догнала и пошла рядом с мыслью» (из письма С.В. Розенблат от 14 января 1935 г.). Но найти в Лондоне издателей рассказов на идише было трудно.
Кроме рассказов Штейнберг взялся за продолжение повести на русском языке «Во рву гибельном», начатой еще в Гейдельберге в 1923 г. Ее герои — затерянные в Берлине русские эмигранты, уязвленные, тушующиеся, бездомные, вечно сомневающиеся. Вторичная по стилю, ориентирующаяся главным образом на Достоевского и Белого, это тем не менее интересная попытка выразить философское понимание жизни как единства многообразия. «Множество» передается через детальность, конкретность каждого движения персонажей, их реплик и мыслей. Жизнь героев распадается на мелочи, но так же бессмысленно, говорит главный герой, в выгоде и расчете, проходит жизнь немцев. От одиночества и неприкаянности эмигранты бросаются друг к другу: «гражданин вселенной» стряпчий Иван Митрофанович спешит поддержать встреченного на бульваре, похожего на нищего «синего человека» Михаила Артемьевича. Но помочь не может: ассигнация провалилась в дыру в подкладке! Говорком «подпольного» героя Достоевского он объясняет новичку, как они живут в Берлине: «Что и говорить, в великом городе Берлине жить можно! Однако лишь дотоле, покуда уткнулся носом в память, как в пуховую подушку или вовсе забился. Очухаешься, оглянешься, а все кругом сон и мираж… Играй рольку свою, топчись на пыльных подмостках, и всегда-то на первой, заметьте! — репетиции» (SC. Box VII). Эмиграция — «гибельный ров». Штейнберг планировал написать три части, но кончил только первую — ввиду «коммерческой непригодности», как он выразился. С беллетристикой явно не получилось.
Зато значительно выросли масштабы научно-исследовательской и организаторской работы. В 1936 г. в Женеве под руководством С. Вайса и Н. Гольдмана был организован World Jewish Congress (Всемирный еврейской конгресс) — WJC (ВЕК); Штейнберг вступил в его Британское отделение, а с 1948 по 1968 г. руководил отделом культуры Конгресса и был постоянным его представителем в ЮНЕСКО. По общему признанию, он стал центром «небольшой, но духовно спаянной группы сотрудников Британской секции ВЕКа»[66]. Штейнберг так определял «культурные позиции» ВЕКа: «сохранение мирового еврейства как коллектива и его идентичности», «сохранение культуры как жизненной силы в этом мире». По его инициативе был учрежден исследовательский центр по изучению геноцида, репараций и лиц без гражданства, создавший издательские центры и журналы на идише: в Тель-Авиве («Di Goldene Keyt»), в Буэнос-Айресе («Davke»). Он был одним из инициаторов создания в Нью-Йорке Мемориального фонда еврейской культуры. Одно только перечисление его должностей и обязанностей заняло бы немало места, ограничимся лишь самыми заметными: почетный президент Британской секции YIVO, почетный председатель Ассоциации еврейских писателей и журналистов Англии, один из инициаторов и руководителей основанной в 1954 г. «Популярной еврейской библиотеки» на идише и пр. Лекции по еврейской религии и истории в YIVO совмещались с докладами в Пушкинском клубе (1955–1961): «Братство по Достоевскому», «Равенство по Достоевскому», «Достоевский о Пушкине».