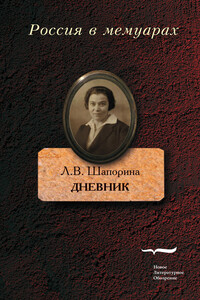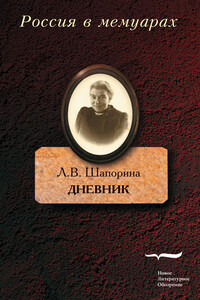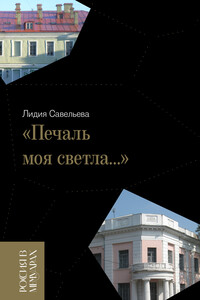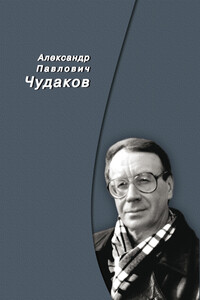В отличие от большей части русско-еврейской интеллигенции, которая оставалась замкнутой в эмигрантских границах и мало контактировала с немецкими евреями (С. Дубнов, Х.-Н. Бялик и др.), Штейнберг и здесь наводил мосты. Две женщины: публицистка Марта Нотман и пианистка и музыкальный критик Алиса Якоб-Левензон — взялись ввести Штейнберга в берлинские салоны. В них читалась и обсуждалась его повесть-пьеса «Достоевский в Лондоне». В итоге два акта в переводе на немецкий язык были напечатаны в сборнике молодых еврейских писателей «Zwischen den Zelten» (Среди шатров. Берлин, 1932). «Я почувствовал, — писал С. Дубнов о Штейнберге, — что именно этот молодой человек призван быть посредником между нашей восточноеврейской и окружающей западной интеллигенцией»[53].
Этой ролью Штейнберг не ограничивался, вступив, например, в полемику с представителями разных идейных течений эмиграции по поводу «еврейского вопроса». Широкую известность приобрела полемика Штейнберга с Л.П. Карсавиным по поводу статьи последнего «Россия и евреи». История этой статьи вкратце такова. 12 февраля 1927 г. в Париже проходило собрание Республиканско-демократического объединения, на котором с докладом «О евразийстве» выступил П.Н. Милюков. В ходе прений был затронут вопрос об антисемитизме евразийцев. Принимавший участие в прениях Карсавин попросил доказать, в чем он конкретно проявляется. Ему пытался ответить М.В. Вишняк, который через неделю после собрания опубликовал в газете «Последние новости» письмо в редакцию под названием «Евразийство и антисемитизм». Оно было полностью посвящено ответу на вопрос Карсавина. «Если бы евразийство как „миросозерцание“, — говорилось в этом письме, — определенно и недвусмысленно отмежевалось от антисемитизма, одним грехом у евразийцев стало бы меньше»[54]. Задетые письмом Вишняка, Карсавин и П.П. Сувчинский ответили ему статьей «Евразийство и антисемитизм», опубликованной в той же газете[55]. Их статья отрицала какой-либо антисемитизм в евразийском движении в целом и у лиц, называемых Вишняком, в частности. В том же номере был помещен ответ Вишняка, которого слова оппонентов не убедили. Статья Карсавина «Россия и евреи»[56], написанная в продолжение этой полемики, должна была перевести ее из идеологического в философский план. В соответствии с центральной идеей своих философских взглядов о всеединстве и соборности православия автор предлагал «инкорпорировать» в него евреев. В результате станет возможным остановить «разложение» «периферийного» еврейства, утратившего связь со своим народом. Эта давняя идея православной философии побудила Штейнберга взяться за перо. «Для того, чтобы обратиться ко Христу, — возражал он Карсавину, — еврей <…> должен прежде всего потерять веру в Бога; для того, чтобы весь Израиль спасся, весь Израиль должен погибнуть»[57]. Рассматривая русское еврейство как «некое органическое единство», которое «принадлежит одновременно к двум разным объемлющим его целым: к всенародной общине израильской и к России», Штейнберг писал, что «у русских евреев есть задача по отношению к всемирному еврейству и есть задачи по отношению к России. <…> служа России, мы сумеем служить тем самым и нашему еврейскому призванию». «Отсюда вовсе не следует, — заключал он свой ответ, — что нам в России вообще легко. Я не говорю о нынешнем тяжелом миге и даже не о прошлых веках: я говорю о будущем. Надо, чтобы русские, те, о которых нет сомнения, русские ли они или нерусские, прониклись сознанием, что еврейство не „враг“, а союзник»[58].
Штейнберг склонял к диалогу, потому одного «Ответа» ему показалось недостаточно, и он предложил «Верстам» написанную ранее статью «Достоевский и еврейство»[59]. В ней он дал трактовку трудного для еврейского читателя вопроса: как соединить Достоевского, символ свободной мысли, с его юдофобством? Штейнберг решает эту задачу, расчленяя интеллектуальное сознание писателя на два уровня: национальный и культурно-философский. В первом подходе он выступает как «обвинитель», что естественно; во втором — как «адвокат». «Адвокат» находит у «обвиняемого» мотив, объясняющий его антисемитизм: Достоевский, всю жизнь желавший счастья своему народу, тайно завидовал евреям, жившим в неразлучном и неразрывном единстве с Богом.