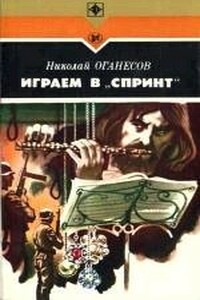— Что же? — спросил Скаргин.
— Он сказал в заключение: «То, что я копил годами по одной копеечке, она спустит за неделю». Я подумал, что в старике говорит жадность, а все остальные его слова — так, глупости.
— Не понял. Он что, производил впечатление…
Фролов не дал договорить:
— Я вас понял. Речь его в самом деле была похожа на бред, но говорил он, кажется, серьезно. Например, в тот раз он сказал, будто ему сделали такое предложение: недалеко от центра города продается старый дом — семья переезжает и продает дешево. Так вот, можно купить, сделать ремонт, пристройку и перепродать вдвое дороже. «Вот так делают денежку», сказал он. Я спросил, неужели он согласился на спекулятивную сделку? Прус ответил, что будь он помоложе — обязательно согласился бы, а сейчас возраст не тот.
— А кто сделал ему такое предложение?
— Он не сказал. Только осторожно намекнул, что если бы я согласился взяться за дело, то он ссудил бы деньги.
— А не в этом ли была причина откровенности Пруса?
Фролов почти с благодарностью посмотрел на следователя.
— Возможно… Я сказал ему, что такими делами не занимаюсь, и Евгений Адольфович больше не возвращался к своему предложению.
— Как складывались ваши отношения потом?
— После того случая он исчез.
— Надолго?
— Его не было почти два месяца: большую часть ноября и весь декабрь.
— Когда он возобновил посещения мастерской?
— В январе, а точнее — четвертого января. После праздников я вышел на работу. В конце дня дверь отворилась, и вошел Евгений Адольфович собственной персоной. На нем были новые ботинки, брюки, теплая рубашка. Я почувствовал тогда некоторое облегчение. Кто знает, что с ним могло случиться?
— Вы опасались чего-то конкретного?
— Нет. Как будто нет.
— Что говорил вам Евгений Адольфович четвертого января?
— Он сказал, что уезжал из города.
— Куда и зачем?
— Я не берусь утверждать, что его слова соответствовали действительности. Прус сказал, что ездил на Черноморское побережье. Отдыхать. Выглядел он и в самом деле неплохо: поправился, был хорошо одет. Вместе с тем он стал более подвижен. Всегда ровный, спокойный, он, казалось, был начисто лишен эмоций, а после приезда стал беспокойным, больше двигался, суетился. Ему не сиделось на месте.
— Но вы упоминали о способности Пруса плакать, волноваться, размахивать руками…
— Правильно, но противоречия здесь нет. И плакал и говорил он как-то невнятно, как в полусне. Например, слезы у него лились без видимых усилий, сами собой. За два года, которые я знал Евгения Адольфовича, помню лишь два случая, когда его глаза выражали хоть какое-то подобие чувства.
— Интересно, — сказал Скаргин. — Когда?
— Когда он рассказывал о своих родных, накануне своего двухмесячного отсутствия. Тогда глаза у него были злые. И у столовой, когда мы познакомились, глаза тоже были злыми. Злыми и голодными.
— Прус назвал вам место, где он отдыхал?
— Новороссийск.
— Почему именно Новороссийск?
— Он не говорил.
— Как долго он находился у вас в мастерской четвертого января?
— Представьте себе, до закрытия. Собственно, он всегда сидел до тех пор, пока я не уходил на перерыв или домой после работы.
— Чем он занимался в тот день?
— Ничем. Дремал на стуле, время от времени просыпался, смотрел сквозь витрину на прохожих, снова дремал.
Скаргин посмотрел на часы:
— Ваш перерыв заканчивается. На сегодня хватит, Геннадий Михайлович.
— Странный вы человек. — Фролов удивленно поднял брови. — Говорили целый час, а непосредственно о седьмом января — ни слова.
— Думаю, мы еще встретимся, Геннадий Михайлович, и успеем поговорить обо всем.
Скаргин попрощался и вышел на оживленную улицу.