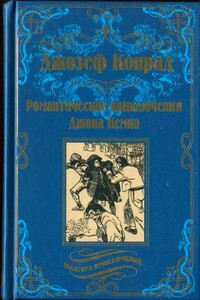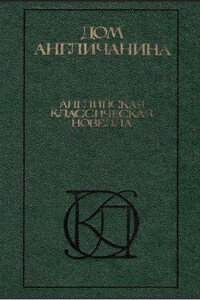Были у меня знакомства и в других кругах. Например, величественная, похожая на изваяние красавица мадам Делестанг иногда вывозила меня на переднем сиденье своей кареты в Прадо на модные тогда прогулки. Она принадлежала к одному из старых аристократических семейств юга Франции. Ее надменная пресыщенность напоминала мне о леди Дедлок из диккенсовского «Холодного дома», романа, к которому я с самого детства испытываю такое восхищение, а точнее столь сильную и необъяснимую любовь, что даже его слабые места мне дороже творческих удач других мастеров. Я перечитывал его бесконечное количество раз – и по-польски, и по-английски. Я читал его буквально третьего дня, и романная леди Дедлок, в свою очередь, показалась мне очень похожей на прекрасную мадам Делестанг – что, впрочем, совсем не удивительно.
Ее муж (который тоже сидел в карете напротив меня) с его тонким костистым носом и совершенно бескровным лицом, будто сжатым казенными бакенбардами, не обладал ни «важным видом», ни придворной светскостью сэра Лестера Дедлока. Он принадлежал к высшей буржуазии и, будучи банкиром, открыл мне скромный кредит. Он был настолько горячим, нет, настолько закостенелым, буквально мумифицированным роялистом, что в беседе использовал обороты речи времен, я б сказал, славного Генриха IV, а когда речь заходила о деньгах, исчислял их не во франках, как обычные послереволюционные безбожники французы, а в давно изъятых из обращения и забытых экю – из всех денежных единиц мира! – как если бы Людовик XIV все еще прогуливался по садам Версаля, а месье Кольбер [31] по-прежнему был занят устройством торгового флота. Согласитесь, весьма странные манеры для банкира девятнадцатого века. К счастью, в конторе (которая занимала первый этаж городской резиденции Делестангов, расположенной на тихой, тенистой улице) счета велись в современной валюте и мне никогда не составляло труда донести свои желания до степенных, тихоголосых клерков – легитимистов, я полагаю, – сидящих в постоянном полумраке от частых и толстых решеток на окнах, за потемневшими от времени конторками, под высокими потолками с тяжелыми лепными карнизами. Выходя на улицу, я всегда чувствовал себя так, словно побывал в храме очень величественной и в то же время совершенно светской религии. Обычно именно в этих обстоятельствах, когда я проходил под сводами больших каретных ворот, леди Дедлок – я, конечно, говорю о мадам Делестанг, – завидя приподнятую мною шляпу, подзывала меня с благожелательной властностью к карете и говорила с веселой небрежностью: «Садитесь-ка, проедьтесь с нами!», к чему ее супруг обычно присоединялся с некоторым даже воодушевлением: «Давайте же! Садитесь-садитесь, молодой человек!» Иногда он расспрашивал меня о моем времяпрепровождении – подробно, но и с большим тактом, и никогда не забывал выразить надежду, что я регулярно пишу своему «достопочтенному дядюшке». Я не делал секрета из своих занятий, и тешу себя надеждой, что мои безыскусные рассказы о лоцманах и обо всем прочем развлекали мадам Делестанг, насколько вообще эту невероятную женщину могла развлечь болтовня мальчишки, переполненного новыми впечатлениями от необычных людей и небывалых ощущений. Она не высказывала своего мнения, она вообще говорила со мной очень редко. Однако благодаря одному краткому и мимолетному эпизоду ее портрет хранится в галерее моих самых сокровенных воспоминаний. Однажды, высадив меня на углу улицы, она протянула руку и удержала мою, слегка сжав ее на мгновение. Муж неподвижно сидел в коляске и смотрел прямо перед собой, а она наклонилась ко мне и сказала спокойно, но с легкой тенью тревоги в голосе: «Il faut, cependant, faire attention a ne pas gâter sa vie» [32]. Никогда прежде не видел я так близко ее лица. Мое сердце забилось быстрее, и потом весь вечер я был задумчив. Безусловно, всякому следует стараться не загубить свою жизнь. Но она не знала – и никто не мог знать, – какой призрачной эта опасность казалась мне тогда.