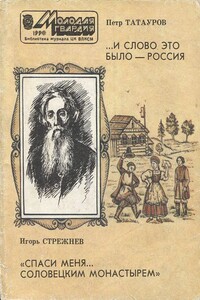— Вовчик… Вовчик! — тревожно окликнул дядя Паша, неуверенно топчась у киоска.
— Здесь я, — сказал Ивлев и, обтерев руку о штаны, подал дяде Паше.
Так они и шли по городу, потом по оврагу, взявшись за руки, и Ивлев воровато, кусками, стараясь как можно тише, глотал мороженое. Дядя Паша рассказывал что-то о паровозах, а Ивлев, гримасничая от холода в набитом рту, был доволен, что тот ни о чем не спрашивает.
Вечером у него заболела голова, язык стал шершавым, в горле першило. К утру поднялась температура. В горле что-то разбухло. Он хотел это сглотнуть, но не получалось, он задыхался. Когда закричал, все проснулись и вызвали врача.
Несколько дней он бредил. Временами приходил в себя и почти всегда видел у постели дядю Пашу, чувствовал его руку, шепот:
— Ничего, Вовчик… Ничего…
Порою слышалось: «…Не беспокойтесь… Осложнение… Кризис… Ничего страшного… Компресс…» Перед глазами торжественно, медленно, приятно плыла вереница великанов. Было покойно, сладко… Но вдруг один из них приближался, угрожающе возрастал, заслоняя собой все, наваливался на Ивлева, расползался, как тесто — тяжелое, липкое… Ивлев начинал хрипеть, метаться, срывать компрессы…
Когда кризис миновал и Ивлев, проспав ночь без стонов и кошмаров, проснулся, то дядя дремал у постели. Ивлев позвал его. Дядя Паша дернулся на стуле и радостно закричал:
— Ариша!.. Ариночка!.. Неси горячего молока… Вовчик проснулся! На поправку пошел, — уже тише сказал он и, держа голову прямо, нащупал ладонью лоб Ивлева. — Вот и температура спала. Ничего… Отлежишься, сил наберешься. Будешь потом Москву вспоминать, а? — И он тихо засмеялся. — Меня тут запылила Ариночка — племянника не уберег! Да мы, Ивлевы, рязанские! Крепкие мужики. Дед Семен кобылу поднимал! А тут — ангина…
После переживаний у постели Ивлева дядя Паша совсем ослеп. И днем и ночью глаза у него смотрели одинаково равнодушно.
…Дверь Ивлеву открыл старый мужчина с тяжелыми сутулыми плечами и лицом, которого Ивлев, конечно, не помнил, но в котором было что-то свое, родственное — знакомый, как у отца, чуть припухший нос, бородавка в уголке губ, очень приметная в старости, открытые светлые мертвые, как у всех слепых, глаза — они были посторонними на лице, выражавшем участливое внимание, радость, готовность быть полезным и одновременно затаенную неприязнь, если человек, позвонивший в дверь, нежелателен в этом доме. «Все мы сутуловаты», — подумал Ивлев.
— Павел Алексеевич Ивлев? — официально спросил он, не зная, с чего начать.
— Да.
— Я Владимир Алексеевич Ивлев… С Дальнего Востока, — добавил он, поясняя.
Исподволь, как отраженное эхо далекого деревенского детства, лицо слепого озарило радостное умиление:
— Входите… Входите же!
Он уверенно и быстро двигался по квартире, даже чистил картошку, расспрашивал Ивлева, сам говорил, что жена с дочерью на юге, хозяйничает он один, следит за цветами, а с отцом Ивлева они держат связь постоянно, и в каждый свой приезд отец заходит к нему. Ивлев, отвечая, доставал из портфеля баночки, целлофановые пакетики с рыбой, кальмаром.
Сварилась картошка, и они сели за стол. Ивлев придвинул тарелочки к Павлу Алексеевичу и пояснил, что в какой лежит.
— Отец не обидится, что проехал мимо?
— Нет. Будет рад… Он меня давно посылал сюда.
— Дед тебя наконец увидит… — Он запнулся на полуслове. — Плох он совсем стал.
— Хотелось летом приехать. Никак не получалось, каждый год оттягивал.
— Отец твой каждое лето приезжает, молодец… За мной заедет — и на родину, в деревню. А дед слушает про тебя, потом головой поведет в сторону бабки и гордо скажет: «Во-о! Видала? Внучек в окияне сейчас. Вишь, куда Ивлевы забрались…» И палец так это поднимет — мол, соображай, бабка, и Алексей добавит: «На сушу бы ему надобно определяться. На сушу. На воде надежи нет никакой». Но это для порядка больше, чтобы свой стариковский авторитет подчеркнуть…
Ивлев смотрел, как Павел Алексеевич поднял палец, рассказывая про деда, и подумал, что слепые, наверное, по интонации представляют, что сейчас делает собеседник. Впрочем, они же с малых лет друг друга знают.
— Ну а ты сам как?.. Море бросать не собираешься?