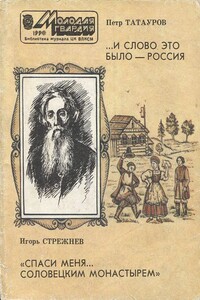Внутреннее возбуждение светилось на лице Павла Алексеевича. Он говорил о работе, о привычном хорошем труде, с которым его так рано разлучила судьба. За свою слепую жизнь он мысленно провел вновь все свои поездки: от первой до последней. По ночам ему, наверное, снились паровозы; он слышал гудки встречных составов, приветливо сигналил в ответ, а потом оглядывался из кабины и смотрел, как в воздухе, над местом встречи, сливались и постепенно таяли над весенним зеленеющим лесом два разных по цвету паровозных дыма. Ему снились счастливые минуты после хорошо сделанной поездки, когда, спустив пар, он заводил паровоз в депо, ставил над смазочной ямой, а сам шел домой вместе с бригадой, чтобы, отдохнув, завтра прийти и весь паровоз осмотреть, простукать, промазать… Ему снилась работа, дневной свет, сиянье рельсов под солнцем и отблеск далеких ночных семафоров.
— А сосед мой умер, — сообщил Павел Алексеевич.
— Какой сосед?
— С которым ты уехал отсюда. Он работал проводником и ездил тогда на восток.
Ивлев помнил только железнодорожную тужурку в белом переднике, пахнущую чаем и московскими сухарями, и промолчал.
Ночью Ивлев проснулся. Его разбудил знакомый звук. Еще не поняв, что это, он подумал, что спит дома на сеновале: до того знаком был этот звук. Он уже затихал. Это был шум проходящего поезда.
За окном серело. Ивлев тихонечко поднялся и прошел к балкону. Цветы в деревянных ящиках, которыми был заставлен балкон, душно пахли. Далеко слева тускло светились под фонарями платформы станции. Виадук, зависший над ними, едва чернел в теплом тумане.
Ивлев прислушался. Павел Алексеевич ровно дышал во сне с легкой, от курения, хрипотцой. Когда он вчера подсел поближе к Ивлеву, тот понял, что Павел Алексеевич никак не может преодолеть стеснения и мучается, что не видит его, Ивлева. А потом он встал и прижал голову Ивлева к своей груди. Мягко водил пальцами по его лицу, ерошил волосы. Ивлев ощущал щекой пуговицы рубашки, слышал, как бьется сердце дяди Паши; на шею ему капнуло несколько старческих слез. О чем он плакал в этот вечер, может, первый раз в своей жизни? О том, что уже стар, или о том, что у него нет сына и в Ивлеве он хочет увидеть продолжение свое и, вероятно, нашел, а потому он плачет от радости, от счастья, что жизнь его и жизнь отца Ивлева повторяется в нем, Вовчике, как звали его в детстве, и Вовчик должен верно и крепко идти по жизни. И не обращать на его слезы внимания. Он плачет от радости и немножко от неосуществимости своего желания — посмотреть на Ивлева. Каким он стал?..
Они долго говорили о деде и чтобы завтра же Ивлев ехал к нему. Порывшись в черном пакете, он протянул Ивлеву старую, поломанную в одном месте фотографическую карточку на картоне, сказал, чтобы он хранил ее…
Ивлев шагнул в комнату, взял со стола карточку и вернулся на балкон. В сизом утреннем свете он вновь стал разглядывать ее. Его дед, который уже сорок лет не фотографировался, оставил в памяти Ивлева только колючие усы и кисловатый запах сушеных яблок. На фотографии он тоже был с усами. Одна рука перебинтована до кончиков пальцев, и было видно, с каким трудом на нее натянули рукав гимнастерки. Дед осторожно сидел на краешке хрупкого венского стула, бережно держа изрубленную руку на коленях. За плечами фон с облачным небом, а между ног, обутых в бесформенно растоптанные сапоги, сквозь фигурные ножки стула морские волны в барашках пены. В углу выдавлено: «1915 г. Д. Е. Анерик. Псков. Уг. Сергеевской и Губернаторской ул., д. Барона Медем».
«Он уже проснулся», — подумал о деде Ивлев. Старики просыпаются рано. Он вообразил, как дед в валенках с галошами вышел в сад. Кругом роса. Поют птицы, пахнет зреющими яблоками. Дед смотрит на рассветное небо, определяя, солнечный ли наступает день.
А завтра, когда Ивлев будет идти по садовой дорожке к дому, дед будет сидеть на скамейке у крылечка, греться на солнце и из-под руки смотреть на появившегося вдали Ивлева. Потом он встрепенется: в походке, в фигуре, в размахе рук идущего почувствует свое, знакомое, родное. Ему даже покажется на мгновение, будто он еще не старик, а это идет по дорожке его старший сын, приехавший погостить из Москвы, в своем чудном костюме, переливающемся на солнце цветом жгучего пляжного песка с одиноко растущими шелудивыми пальмами…