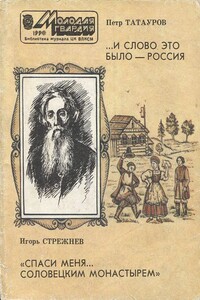«Добытчик» тем временем уже деловито теребил воблу, предлагая ей самые лакомые кусочки. Женщина равнодушно жевала, равнодушно кивала в ответ на его реплики, и свисающие массивные серьги печально поблескивали в такт кивкам.
«Ключ, судя по всему, в почтовом ящике оставила… Чтобы больше ни о чем не говорить, когда вернусь. Она мужественная женщина. Терпеливые женщины всегда мужественны, а уж если что решают — то навсегда. И вообще — русские женщины не умеют экономить, оставлять что-то про запас… Если уж любят — то любят. А поверят если — то и душу отдадут за веру. Потому и стареют быстро…»
На улице тихо сыпал рясный мокрый снег. Подняв воротник плаща, он стал подниматься вверх по переулку.
Отчего ни в каком другом месте за кружкой пива ему не бывало так щемяще хорошо, как именно здесь, в центре столицы, среди шума и гама, «забегаловского» запаха и тесноты, рядом с солидными и в чем-то экзотическими ресторанами?..
Может, оттого, что до войны здесь мог бывать отец, а в войну прошел в полукилометре отсюда с винтовкой через плечо: «Сибирь пошла…» Или из-за легендарной ссыльной бабки, первый этап у которой начался с Таганки и фамилию которой он сейчас носит по завещанию, как единственный внук. И другая бабка, безграмотная и в лаптях, приехавшая наниматься в работницы. А давние предки, о которых никто ничего не знает, неизвестные и далекие, волею судеб, может, бывавшие здесь, еще в деревянной, а потом в белокаменной?.. Вероятно, для него именно отсюда, от этого вот памятника и начинается этот самый дым отечества, который сладок и приятен.
— Где же вас носит?! — укоризненно встретила телефонистка. — Алло, девочки?.. Девочки!
Китлицкий рванулся к кабине. Потом долго ждал, стоя в дверях с трубкой в руке, взглядом мучая телефонистку.
— Даня! Даня! — наконец захрипело в трубке. — Китлицкий!.. Але? Москва?! Але…
В груди словно что-то треснуло и расплылось приятно-теплым. Он прикрыл дверь и сказал:
— Здравствуй…
— Даня! Даня, ну что же ты… Але, Кит? Ты меня слышишь?
— Слышу…
— Ну что же ты не позвонил на работу, скромник ты этакий?! Нужен был человек из отдела на картошку… А я одна. Да и погода стояла чудная… А я там извелась вся. Звоню на работу, а мне — нет, не было… Ты меня слышишь?
— Да…
— А идти на попятную неудобно. Ты же меня знаешь. Только сегодня закончили. Завтра с утра должны прислать автобус, а я ждать не стала: пехом успела на последнюю электричку. И вот грязная, пропахшая картошкой, костром, сижу и сижу у телефона, сижу и сижу… Уф-ф… — перевела она дух. — Все о себе. Как ты там?.. В общежитии живете?
— В гостинице поселили. Приехало много из-за рубежа…
— Ух ты! — перебила она вновь. — Как погода? Часто звонил?
— Каждый день. Звоню и жду… Жду и звоню. От ожидания привык к креветкам…
— К кому, кому ты там привык, не поняла?..
— Я люблю тебя, — сказал он и закрыл глаза, чтобы не видеть ничего и никого за стеклянной дверью. — Я люблю тебя, Надежда, — выговорил он снова с закрытыми глазами, вслушиваясь в как бы объемную тишину кабины.
— Повтори, — сдавленно донеслось из тишины.
— Я решил, что ты меня бросила… Я так как-то кургузо живу, прости меня… Нужен я тебе? — вдруг зачем-то спросил он.
Она в ответ согласно плакала. Он представил ее в своей рубашке, пропыленную, с грязно-мокрыми потеками на щеках и тихо произнес:
— Перестань… Я даже не знал, что ты когда-нибудь плачешь… Москва слезам не верит! — опять зачем-то добавил он, вспомнив извивающуюся очередь у кинотеатра, мимо которого каждый вечер проезжал.
— Даня… Даня, почему ты так, — облегченно и прерывисто всхлипывая, заговорила она. — Я все глаза здесь прогляжу ожидаючи. Когда прилетишь, Данила ты мой Палыч?..
В трубке коротко гуднуло и зашипело, он открыл глаза. Потряс трубкой. «До завтра…» — сказал Китлицкий.
Похолодало. Снег таять перестал и покрывал город плотно и размеренно. Могло показаться, что наступила зима. Но на другой день погода установилась, снег сошел. До зимы еще было далеко.