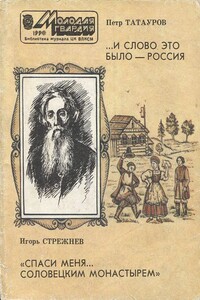— Ничейная это псина, — как о чем-то уже решенном сказал тот, что с футляром, и внимательно стал разглядывать собаку. — Хорошая шерсть, — продолжал он. — И окрас приличный…
— Я же говорю — добрые унты получатся, — подтвердил тот, что в унтах, перекладывая с руки на руку горбыль половчее. — Пожалуй, я справа зайду — удобнее будет… А ты целься в ухо… Только не промажь! — И он с горбылем наперевес стал сбоку подступать к площадке.
— …Вы что же, здесь его и разделывать будете? — первой опомнившись, с беспокойством спросила фельдшерица.
— Нет, с собой заберем, — осторожно расстегивая футляр и не спуская глаз с собаки, ответили ей. И было непонятно: в шутку это или всерьез?
Пес скалился на горбыль, хватал зубами мерзлое дерево, каждый раз ускользавшее от него, разъяренно бросался следом.
— Когда дам вцепиться, придержу чуть-чуть… Тут и бей, — командовал организатор отвлекающего маневра. — С руки тебе иль нет?
— А ну-ка погодь, — спокойно, со стариковской уверенностью приказал Федоров и шагнул вперед. — Оставьте кобелька в покое… Да убери дрын-то, убери! — распаляясь, что на него даже не обратили внимания, крикнул он.
С тихим щелканьем были приставлены стволы, легко проглотившие затем на изломе два патрона. Еще одно щелканье — и переломленные стволы выпрямились, изготовились к бою. Лишь после этого владелец ружья обернулся:
— Иди, дед. Не мешай. Не дай бог, смажу, а она бешеная.
— Ты не изгаляйся тут! — вконец вскипел Федоров. — Унты им подавай!.. А мы в обмотках сюда приехали…
— Будешь нервничать — кондрат схватит, не заметишь, как в белых тапочках окажешься, — снисходительно прервал парень. — Знаем мы все это, дед, знаем…
— Ребят, оставили бы собаку, действительно, — нерешительно подал голос осмотрщик. — Февраль уж наступил, холода-то прошли…
Ему не ответили. В этот момент «загонщик» сунул горбыль ближе к собаке, которая вцепилась в него, мотая головой, и как бы для надежности пыталась прижать еще и лапой.
— Ну?! Ну?! — кричал тот, но Федоров схватил за руку вскинувшего было ружье парня и не дал прицелиться.
— Да отвалишь ты наконец или нет?.. — С руганью парень развернулся и тычком отбросил от себя Федорова.
Старческой костистой грудью принял Федоров этот неожиданный удар. «Тяжелая рука», — успел подумать он и задохнулся, как будто ударили под дых. Но не от боли в ребрах, которые не смогла защитить стеганая фуфайка — чистая, незамазученная, как обычно, его привычная одежда, — десятка два которых он износил за долгую рабочую жизнь. Он стоял с открытым ртом от какой-то нутряной унизительной боли, необъяснимой пока, возмутительной и обидной до слез.
Вся жизнь прошла на этом разъезде. Он строил первую казарму и все постройки вокруг, копал колодец и рубил баню, рыл ямы под телеграфные столбы и склады ГСМ. Он с закрытыми глазами мог отсюда пройти по околотку десятки километров в одну сторону и другую и по первой просьбе остановиться и объяснить, где сейчас находится и что будет по правую руку, а что по левую. Это его дом. Он чувствовал себя здесь хозяином, ибо был причастен ко всему. И этот сложнейший и отлаженный механизм не мог обходиться без Федорова, как и Федоров без него. Так было и при керосиновых фонарях, ручных семафорах и стрелках, так есть и сейчас. «Железку» все еще пока трудно представить без костылей, а костыли немыслимы без шпал и рельсов.
С удивленной злобой смотрел Федоров на парней. Потом он выхватил у осмотрщика молоток и решительно двинулся на того, что с ружьем.
— Я вам отвалю, деляги проклятые! — с занесенным молотком наступал он. — Вы у меня вперед смотаетесь. Ишь, р-романтики в полушубках!
— Ой… В отделение? Милицию надо! — засеменила в поисках старшины Панкова фельдшерица.
А дежурная уже повисла на «загонщике», слабыми ручонками выкручивая горбыль.
— Ружье, ружье разряди, — сдерживая размахивавшего молотком Федорова, советовал парню осмотрщик. — Идите, ребята, подобру-поздорову, идите…
Парни, сплевывая и ругаясь, отошли в сторонку, засовещались. Из вокзальчика выскочила фельдшерица, крикнула неразборчиво насчет милиции и юркнула обратно. Опять послышалось знакомое щелканье, треск замерзшей «молнии» на чехле, снова ругань, плевки. И вот, поскрипывая полушубками, они отправились восвояси.