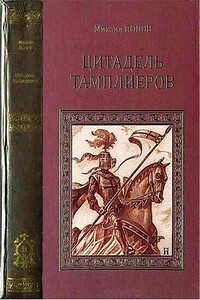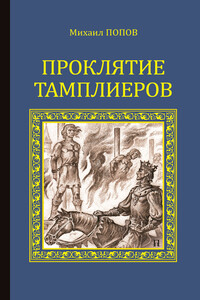Ларисе было тоскливо за этим столом. Хуже было только в комнате под лестницей рядом беззвучно рыдающим Рулей. Перемещалась туда и обратно, и там, и там помалкивая.
— Гурий Лукич, садись, милый.
Гусь присаживался на одну ягодицу, готовый взвиться при первой же неприемлемой фразе.
«Что я здесь делаю, это какой–то сон. Длинный, мутный сон с туалетом на улице».
— Может выйдет к нам? — Спросил Виктор Петрович на всякий случай, как спрашивал всегда. Лариса пошла, спросила — может выйдешь?
— Выйду. — Вдруг сказал внук академика.
Руля пришел не один, с бутылкой какого–то иностранного пойла. Бальзам «Абу симбел». Этим бальзамом, представлявшим собою что–то вроде расплавленного асфальта, и дорогим, по пять с полтиной, португальским портвейном были забиты тогда все московские магазины.
Караваевцы некоторое время недоверчиво смотрели на нагловато пузатую емкость. Смотрели на Рулю, он выглядел плохо, подавленный, растерянный человек. Но если просит выпить с ним, уважим. Выдвинули лафитнички навстречу подношенью.
Руля разлил маслянистую жидкость расслабленной, несчастной рукой.
Возьмет коровьи деньги, возьмет, подумала Лариса. Никуда он не денется от ее спасения
Караваевцы выпили.
Все сидели намертво сжав губы и выпучив глаза. И железнодорожник, и хозяин, и Гурий Лукич. Учитель Вахин вообще держал рукав пиджака прижатым ко рту. Лариса ждала, кто первый произнесет неизбежную фразу, что все это заграничное пойло дрянь, водяра все равно продирает сильнее. Аравийский бальзам пока не давал начаться патриотическому разговору.
Железнодорожник, показывая, что самый железный среди всех, взял бутылку за горлышко и поднес к глазам, загоняя свободной рукой очки на лоб.
— Откуда это? — Спросил он, вдумчиво покосившись на поникшего гостя.
Руля объяснил про совестко–арабскую дружбу.
— Сколько стоит?
— Мне подарили. А так, шесть пятьдесят.
— А-а. — Протянуло сразу несколько голосов и все с облегчением. Считай в два раза дороже водки.
— Да, недешево нам дается эта арабская солидарность. — Ввернул в своем стиле Гурий Лукич. Но тут же поправился, в том смысле, что все равно это нам необходимо в свете борьбы с израильским милитаризмом. Лариса обрадовалась этим словам, сейчас тихо обидевшийся Руля отчалит от политизирующегося стола и она сообщит ему, что спасительные финансовые фонды формируются. Она вдруг почувствовала себя способной к этому разговору, как будто сама чего–нибудь выпила.
Цапнули еще по рюмке бальзама, опять преодолевая неприязнь арийского организма к семитическому продукту. Стали наливать по третьей. Лариса перешла к решительным действиям, взяла фарцовщика за колено, и дернул в свою сторону так, что скрипнули ножки стула под ним. Мол, хватит, пошли! Он все понял и покорно поднялся.
Караваевцы с классическим мужским сочувствием во взоре поглядели на него. Что ж, хоть он и носитель чуждого бальзама, но все равно же жалко парня.
В комнатухе Рауль рухнул, опять навзничь, на застеленную кровать с таким видом, что больше от него ничего никому не добиться.
— Так, — сказала Лариса, упирая руки в боки, зажмурившись от решимости осчастливить и чувствуя, что у нее глаза жгут изнутри веки, как у Анны.
— У меня отец умер. — Простонал Рауль.
— Раковая шейка?
Руля поднял с лица свои тяжелые очки, подержал их в воздухе, как бы давая выплеснуться на волю немому отчаянью, и опять вернул на переносицу. Но не попал точно. Они лежали теперь на его лице косо, и это символизировало насколько ему не по себе.
Лариса молчала. Она была, конечно, в смятении. Но не в отчаянье. В голове шло какое–то бурное конструирование возможного будущего. Она представила себе квартиру на Староконюшенном без трагической колесницы академика. Да, сказала она себе, мне должно быть стыдно, старичок хорошо ко мне относился. Но так уж устроена голова человека. Случись ей ухаживать за ним, она бы делала бы это с последней дотошностью, но, подавая своевременное лекарство, помнила бы насколько его смерть улучшит ее жилищные условия.
Сволочь я, да? Но только ведь не в этом дело, как вы не можете этого понять?!
— А ты почему здесь?