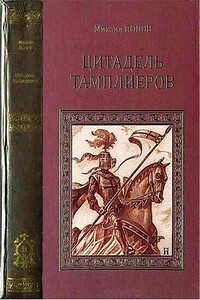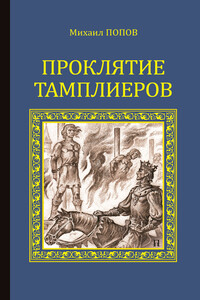Пит объяснял, что Виктор Петрович «не такой уж и чайник», что за штука этот бальзам сказать трудно. Но кому–то помогает.
— Видела мужика, вот только что ушел, в сером пальто, в углу сидел?
— Ну?
— Генерал полковник. Комитета.
— И что?
— Одного легкого нет. Саркома. А Петрович стабилизировал процесс. Главное не закисливаться. Видела, как он, генерал, сидел? Как мышка, а как привык командовать, представляешь? А Петрович его приструнил, хочешь жить, не закисливайся. Веди себя как человек. И таких тут хватает. С чинами. Петрович — учитель.
Всю эту теорию Пит развивал, дыша веселым перегаром, и было не понятно до какой степени он во все это верит.
В тот вечер собралась компания человек из пяти. Лариса даже не пыталась запоминать людей появлявшихся под абажуром и вникнуть в принцип ротации заведенный в этой компании. Она готовилась к разговору с Рулей. Готовилась каждый день, и всякий раз оказывалось, что подготовилась недостаточно. Он являлся все позднее, и в состоянии все большей проваленности в свою прострацию. Дела у него шли хуже и хуже. Возникли какие–то долги. Причем, большие. «Понимаешь, я вложился, а оно вон как. Все эти иконы».
Лариса попыталась вытянуть из него подробности. Что иконы? Какие иконы? Ах, Рыбоконь.
— Да, он! Эта скотина обломала все контакты. Теперь Плоскина требует все назад.
— Ты же говорил, что Плоскина болтун
— Он–то болтун, но за ним такие стоят люди…
— А в чем дело то?! Из–за чего?!
Руля всхлипнул и отвернулся.
— Говори, ты что–то недоговариваешь!
— Да, эти дурацкие бутылки.
— Какие бутылки?! Ах, бутылки? Да, я их помыла. Неужели, из–за этого, это же чепуха! Просто пыльные бутылки!
— Ты смыла этикетки.
— Что?!!
Понимаешь, это у него, у Коня как память. По этим этикеткам он помнит свою убогую жизнь, понимаешь? Медитирует. Фетиш у него такой. Семьи нет, друзей настоящих нет, только бутылки дают ему внутреннюю устойчивость. Глупость, конечно, урод человеческий, но как увидел, аж взвился, за топор хвататься…
— Ты серьезно? Никто не предупреждал. Я хотела как лучше.
Рауль глухо отвечал в подушку.
— Да понимаю, понимаю все.
— Он же просто придрался.
— Понимаю, все понимаю, только я теперь без копья. А отдавать надо.
— Так ты считаешь, что я виновата?
— Нет, конечно.
— А сколько ты должен?
— Лучше не спрашивай.
— Нет, ты лучше скажи.
— Тебе–то зачем?
— Нужно.
— Если задумала продать корову — не надо. Не хватит.
— И все–таки.
Но он уже спал. Полночи Лариса прикидывала, сколько надо взять денег у родителей. Сколько это «много», по московским меркам? У нее зажиточная офицерская семья. Батьки, как говорят в Белоруссии, ударение на последнем слоге, напрягутся. Это будет полноценное приданое. Честно говоря, Лариса, думала именно это, но внутри у нее выходило как–то не так цинично. Ее финансовая помощь Руле представлялась ей скорее романтическим актом, и она виделась себе как минимум Евгенией Гранде.
На следующий день она пошла на телеграф и отстучала родителям чудовищный текст, из которого следовало, что они должны собрать все имеющиеся у них средства, в противном случае их дочь ожидает нечто ужасное.
Можно себе представить, каких размеров паника охватила Принеманье.
Руля отсутствовал два дня, а когда явился, был заметно худее себя обычного, и вчетверо менее общителен, чем обычно.
Из этого мог быть сделан только один вывод — ситуация ухудшилась.
Он прокрался в дом незаметно, Лариса обнаружила его в комнате только зайдя. Он лежал навзничь на кровати, одетый
Говорить с ним не имело смысла.
В тот вечер Виктор Петрович как всегда сидел на дальнем краю овального стола и гостеприимно лоснился, он был весь из округлостей — щеки, лоб, подбородок, даже пухлые кисти рук чуть светились бледным янтарным светом.
Гости пили водку и чай. На столе были сушки, карамельные конфеты, селедка и домашние соленые зеленые помидоры с толстой кожурой. Лариса как–то попробовала, чуть не сломала зуб. У них дома помидоры готовили по–другому, чтобы шкурка лопалась от прикосновения губ.
Гости в основном слушали, про Караваева, про опасность закисливания. Толстяк в железнодорожной форме даже записывал. Одной рукой все время вытирал пот с кадыка, а второй строчил в маленькой книжке. А один гость был нервный. Чувствовалось, что он привык выступать сам, с трудом терпел чужое солирование, и все время норовил вставить свои двадцать копеек, мол, мы тоже читывали книжки. Худобой был похож на ощипанного гуся, часто вскакивал и делал пробежку вокруг стола, держа руки в замке за спиной и кивая каждому своему шагу. Кривая улыбка навсегда застыла у него на губах.