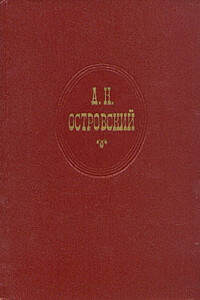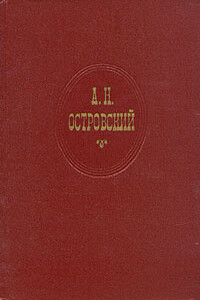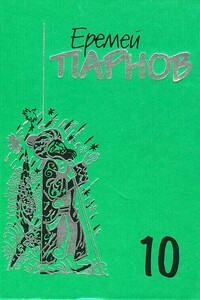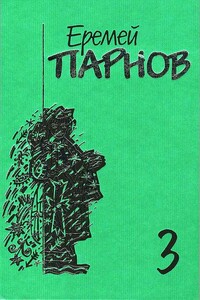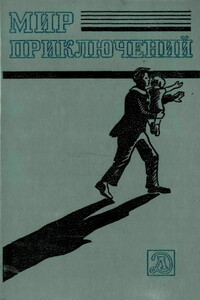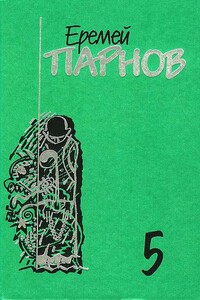— Там она и висела. — Михайлов указал пальцем под самый потолок, где белел квадратик стены. Все остальное пространство сплошь было закрыто иконами. Они висели одна к одной, плотнее, чем на церковном иконостасе, хотя были различных размеров и форм.
— Очень наглядно и убедительно, — одобрил Люсин. — Как глянешь, так сразу и поймешь, что больше нигде она и быть не могла.
Он с любопытством оглядел комнату. Кроме стены-иконостаса, в ней не было ничего особо примечательного. Старая, шелушащаяся проржавевшим никелем кровать, потерявшая почти все шарики, чертежный светильник над ней на телескопической штанге, три запыленных, явно неисправных самовара в углу; кипарисовый крестик и веревочные, старого обряда четки на свободной стене; письменный стол и застекленный шкаф, в котором стояли книги по искусству, какие-то статуэтки, маленькие образки, бронзовые складни, а также утративший все зубы, кроме одного, желтый человеческий череп.
На столе были всевозможные баночки с краской, флаконы с какими-то растворителями, громоздились смятые и запачканные высохшей краской темперные тубы; в полном беспорядке валялись плохо отмытые кисти, какие-то иглы, стеклянные трубочки для туши, бритвенные лезвия, шпатели и комья посеревшей ваты.
Возле самой двери высился внушительный мольберт, к ножкам которого притулились фанерки; на них со средним мастерством были выписаны темные деревянные церквушки на фоне вещего сумрачного неба, прорезанного латунной полоской зари, грустные, скорее всего, карельские, пейзажи. Было там и несколько портретов: расчлененных на плоскости в манере Брака[11] и более менее реалистических, но в зеленых и синих, как у «голубого» Пикассо, тонах. На одной фанерке Люсин узнал Овчинникову. Она была не так хороша, как в жизни, но яркий, изумрудный стронций лица и легкий кобальт волос в фиолетовых брызгах краплака сообщали ей какую-то таинственную значительность.
— Вы продаете свои работы? — спросил Люсин.
— Очень мало. Редко покупают, — усмехнулся художник. — На мне даже фининспектор не заработает.
Люсин спросил его просто так, совершенно позабыв о том, что Михайлов видит в нем только милиционера — не более.
«Нехорошо как-то получилось. Килька какая-то. Это же нормально для художника — продавать свои картины, и очень плохо, когда они не идут».
— Странно, — сказал он. — Мне лично нравятся эти северные виды. Что это? Кижи? Валаам?
— Не знаю. Я там не бывал. Это так… больше из головы.
— Очень похоже получилось. Север! Я его хорошо знаю. Необъятное какое-то небо там. Не горизонт, а именно окоем, а сосны и ели кажутся перед ним крохотными. Сумрачные облака. Все такое суровое, значительное, краски большей частью синие, зеленые, сиреневые, вода свинцовая, хоть и прозрачная… — Он остановился, тщетно ища ускользающие слова. — Вы любите Рериха? Весь он с Валаама начинается… — Но это было уже не его, это он слышал от Березовского.
— Я иконы люблю. Здесь подлинное. Рисовать Бога — это все равно, что каждый раз выше себя прыгать. Сверхчеловеческая сущность. Да разве ее постигнешь? Прыгать прыгают, да не больно-то высоко. Тем и хороша настоящая древняя живопись, что запечатлелся в ней и высокий полет души, и смешной, неудачный прыжок непослушного тела. Глаз видит что-то такое, а рука не может передать.
— Таланта, что ли, не хватало?
— Таланта! Причем здесь талант? Его хватало, не занимать стать… Просто человек одно, а Бог совсем другое. Как же его человеческой рукой передашь? Как его высокую суть постигнешь?
— Так ведь нет его.
— Кого? — не понял Михайлов.
— Бога.
— Ах вот оно что! Это для нас с вами его нет, а для них, — он кивнул на иконы, — был! Без Бога в душе разве так нарисуешь?
— Выходит, что все иконописцы были верующими? — наивно спросил Люсин.
— В старину, знаете ли, почти все веровали. Только не в том дело. Можно ведь в Бога как в такового не верить, но стремиться изобразить что-то непостижимое. Понимаете? Рублев или там Феофан Грек могли и не верить, главное, что тянулись они хоть глазком заглянуть за небесную — как бы это сказать? — твердь. Халтурщик же, ремесленник, вернее, не халтурщик, пусть он поклоны бьет и свечи ставит, все равно ничего, кроме жалкой копии, не создаст. Он же деньгу зарабатывает, а не творит. К чему ему эти прыжки выше собственной головы? Потому-то хорошие иконы так редки. Ведь сколько черных досок отмоешь, сколько поту прольешь, пока хоть что-нибудь стоящее тебе блеснет!