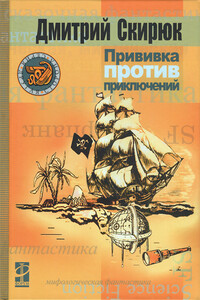Испанцы сняли осаду вечером того же дня, когда казнили травника. Вода прибывала так стремительно, что войска едва успели собраться и уйти, пока дороги окончательно не затопило. Испанцы бежали чуть ли не в панике. С ними ушли обозы, маркитанты, полевые бордели, все, кто их обслуживал, снабжал боеприпасами и продовольствием, искал среди них выгоду или пытался обжулить. Кто хотел, остался – испанцы никого не стали неволить. После полугодовой осады всем осточертело сидеть на месте. Ялка смотрела на проходящие мимо ряды пехоты, на едущую коннницу и видела затаённую радость на серых солдатских лицах: несмотря на потери и сожаление о победе, выскользнувшей из рук, они были рады перемене. Они уходили, оставляя сгнившие палатки, утонувшие в грязи кострища, затопленные рвы и окопы. Топали копыта, скрипели колёса повозок и лафетов, чавкали в грязи солдатские сапоги. Над головами полоскались отсыревшие знамёна, вздымались острия пик и лезвия алебард. Война уходила, и у всех было чувство, что скоро она уйдёт из Нидерландов навсегда.
Чуть в стороне у маленького костерка сидели Фриц, Октавия и Томас. Делать им особо было нечего, и все трое предавались размышлениям, что станут делать в будущем.
– Куда податься думаешь, а, Томас?
– Что мне думать, коль судьба моя предопределена, – рассеянно отвечал тот. – Я согрешил, но и другие согрешили. Куда подамся? Удалюсь обратно в монастырь, буду замаливать грех колдовства, ошибки инквизиции и делать так, чтобы католическая вера снова обрела утраченные добро и милосердие. Потом, коли на то будет воля божья, пойду по свету. Буду проповедовать, учить…
– Учить! – вспылил Фридрих. – Как же! Вот и будешь как этот твой испанец. Начнёшь, небось, искать еретиков. Ты так ничего и не понял. Твои католики – звери и ненасытные палачи. Я никогда не пойду на мир с ними!
– Легко отречься, если что-то исказилось, – философски возразил на это мальчишка в монашеской рясе, – труднее остаться, чтобы выправить. Папа пошёл на поводу у королей, и слуги Христовы претворили воздаяние в месть, а это плохо. Но я буду думать, как это исправить. Нам не искупить чужих грехов – пока это смог сделать только наш Господь Иисус Христос. Попробуем же искупить свои. Я не оставлю католичество, ибо не вижу, чем реформаты лучше нас, католиков.
– Кому куда, а мне вот маму надо разыскать, – задумчиво проговорил Фриц, вертя в руках Вервольфа. – Сестру и маму. Теперь меня не запугать, теперь-то я дознаюсь, куда их увезли, и разыщу их.
– Только не пытайся больше к-колдовать. Не выдержишь.
– Подумаешь! – Фриц подвигал браслет на запястье. – Понадобится, буду ворожить. Не остановишь.
– Ну и п-подохнешь.
– Надо будет, так подохну. Тебе-то что?
– Ты неисправим. Но я буду молиться за тебя.
Они ругались, как обычные мальчишки. Если бы не сан, подумала Кукушка, между ними вполне могла бы завязаться новая дружба или возродиться старая, которая была когда-то в детстве. Но ведь они едва ли помнили о ней.
Жива твоя мама, и сестрёнка жива, с горечью думала Ялка, смыкая веки. Тебе дико повезло, и ты как часть триединства уготовил им такое будущее, в котором их отпустят на свободу. Реформаты уже рушат застенки со всеми этими жуткими кандалами, дыбами, колодцами и маятниками… И хоть твоя сестричка никогда не сможет до конца оправиться от ужасов тюрьмы, она найдёт любимого, с которым проживёт всю жизнь и будет счастлива. А вот какой путь ты выбрал для себя, того не ведаю.
Октавия спала, завернувшись в большой плащ.
Ялка услышала шаги и обернулась. Позади стоял Михелькин и теребил рукав.
– Чего тебе? – спросила она.
– Я… – Белобрысый парень неловко повёл руками, словно не знал, куда их деть. – Ты… Я хотел с тобой поговорить.
– Так говори.
– Я всё обдумал, – начал тот. – Я поговорил с одним торговым капитаном. Он набирает команду, чтобы плыть в Африку, в Капскую колонию. Там благодатная земля, растёт виноград, есть оловянная руда и нет королей и наместников. Те, кто уехал туда, не пожалели. Плывём со мной! Я устроюсь на шахту, подкопим денег, заведём хозяйство. Мы можем быть счастливы. Я… – он сглотнул. – Я обещаю, что не брошу тебя и буду о тебе заботиться. Всегда-всегда.