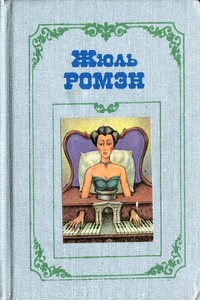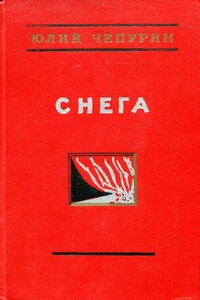Старик. Была, старуха, была. Теперь нету.
Старуха. Как нету! Что говоришь! Грех. Жива ведь, жива.
Старик. Жива, нет ли — все едино.
Старуха. Грех, отец, грех… А я было…
Старик. Что было-то?
Старуха. Ох! уж что ни было!., сказать боюсь… осердишься… Ишь, ты грозный какой стал…
Старик. Где уж грозный! Ветер валит, на ногах не стою — где грозным быть! Грозен да не силен — сама знаешь, кому брат… Сказывай уж… (Нахмурясь.) Ну?
Старуха. То-то, силы нет, а все грозишься!..
Старик. Ну, уж сказывай… ну!
Старуха. Клянешь все дочку-то; да. А она лежит от клятвы-то, от твоей… стонет… раскликать не могут… То-то!..
Старик (мягче и тревожно). Ну?
Старуха. Вечор, в вечерни, посылала проведать — сердись не сердись, послала — не в тебя, не каменное сердце в груди-то, материнское, отец; материнское, несердитое, отходчивое.
Старик (все мягче и тревожнее). Ну? ну?
Старуха. Сказывают, лежит все. Нынче по утру посылала — все лежит же.
Старик (задергал носом). Ну? ну?
Старуха. И пожалела. Да. Образ, благословенье-то наше, чем благословить ее на свадьбе думали, послала, — сердись не сердись, послала…
Старик (почти всхлипывая). Ну? ну?
Старуха. Что нукаешь-то все? Не лошадь я тебе, прости господи! — жена. — Сказывают, вскочила, эдак-то весело; здорова теперь…
Старик (плачет). Что ж… что ж мне не сказала?
Старуха. Боялась. Ишь, ты грозы напустил на себя!..
Старик. Ох, уж где гроза! Плачу, старуха, аль не видишь? — плачу… Вечор грозился — нынче где!.. Только слезы и остались…
Старуха. Ты скажи: хорошо ль сделала? а? На меня не сердишься?
Старик. Аль по твоему зверь я, а? И жалости во мне нет, а? Я ей зла не желаю, нет, пусть… пусть здорова живет… А что отца с матерью забыла — бог ей судья!.. как знает! а я зла ей не желаю, нет.
Старуха. Коль бого-т судья, ты что же судишь? Прощенья зачем не скажешь?
Старик. Прощаю ее, и благословенье ты ей послала — не сержусь, хвалю… Чего ж еще?
Старуха. Повидел бы ее…
Старик. И заикаться не смей! не моги!
Старуха. Ох, уж и не заикнись! Как же!
Старик. Не надо мне ее, не надо. Ей меня не надо стало, ну и мне ее не надо же. Захотела по воле жить — живи. Сердца у меня на нее нет, да и к ней не лежит сердце. Нету дочери у меня, нету. Отрезана: от дому отрезана, и от сердца отрезана тож…
Старуха. Ох, старик, старик! Грех! И помочь ничем не хочешь?
Старик. Помочь, помогу: сколько хочешь помогай, запрету от меня нет. Только чтоб я, государев свет-Алексей-Михайловичев стольник, Нардын-Нащокин — да его плута и ведомого вора Фролку зятем назвал — никогда того не будет, никогда! И тебе не позволю! нет! А помочь, помогай. И сам чего надо пошлю. Савельич, эй Савельич!
Входит Савельич.
Савельич (входя). Что, государь, прикажешь?
Нащокин. Ты мне правду говори. Посеребрил вчера зятек мой любезный тебе уста-те, а ты милости мои прежние вспомни — правду говори. Лежала дочь вечор больна?
Савельич. Лежала, государь, — сам видел.
Нащокин. А нынче встала?
Савельич. Встала, государь.
Нащочиха. Ишь, родительское-то благословение чего стоит.
Нащокин. Дорого, мать, стоит, дорого. Только для нас дорого оно по душе. А ему, плуту, чем оно дорого? Денег больших стоит, в золотом окладе, да в каменьях дорогих, — тем оно ему дорого. Тем. Заложит его, аль продаст…
Нащочиха. Ох, полно-ка!
Нащокин. Верно говорю, заложит. Ведь дорого, старуха, наше благословенье — денег больших под него дадут. И как не заложить! Кормить жену ему, чай, нечем. (Савельичу.) Бедно живет?
Савельич. Эдак-то бедно: горенка махонькая эдакая…
Нащокин. Ну да, да! Кормить, говорю, нечем. С того и больна стала. Ну да. (Савельичу.) Ты слушай: навали ему семь подвод, всего положи: и хлеба, и муки, и живности всякой, и рыбы. Свези, пусть кормит жену-то, — не попрекает, что приданого не принесла.
Нащочиха. Ну, старик, за это спасибо тебе!
Нащокин. Не для ради их делаю, старуха. Нет. А для того: не быть бы благословенью нашему поругану. Они нешто подорожат им? С молоду-то не очень родительским благословеньем дорожат. Не то дорожить — дорожиться не станут, за бесценок спустят. Да, да. (Савельичу.) Далеко ль плут живет?
Савельич. Кто, государь?