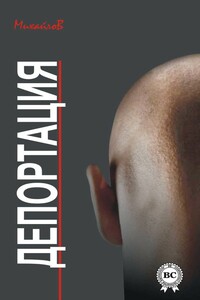Что я мог сказать ему?
Я чувствовал всю фальшь слов утешения или заумных разглагольствований, они казались мне неуместными и бесчеловечными.
— Бессердечная женщина! — воскликнул я, но теперь уже с такой запальчивостью, с какой не повторяют чужие слова.
Дюси вскочил и закричал на меня:
— Какие у тебя основания говорить так?
— Потому что это на самом деле так!
— Она же вернулась ко мне… Совесть ей подсказала.
— Но ведь потом опять ушла.
— Как-то вечером, когда стелила постель, она вдруг застыла в оцепенении… Подушка выпала из ее рук… из глаз брызнули слезы… не говоря ни слова, она собрала вещи и ушла. В чем здесь суть? Ну? — И, выждав немного, ответил: — А я знаю!.. — Он до хруста стиснул зубы и продолжал: — Она увидела на подушке отпечаток головы того, другого… — Он засмеялся напряженно-резким, почти оглушительным смехом. — Ты помнишь ту дискуссию в студии? Когда мы шерстили Палотаи за теорию о герое с «раздвоенной личностью»? В конечном счете ему пришлось выступить самокритично. — Эти слова он произнес так, словно гордился своей победой в этой дискуссии. Он снова налил себе; мне тоже.
— Не многовато ли?
— Надо же наверстывать упущенное за целых три года! А ты можешь и не пить, тебе нечего наверстывать.
Он залпом выпил. И я за компанию.
— Почему ты молчишь? — спросил он, глядя на меня затуманенными глазами. — Почему ничего не расскажешь? Как дела на студии? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Ольга тоже признала свою ошибку, что в свое время поверила в мою вину… Бессердечная женщина?
— Да, бессердечная.
Он стремительно ткнул в меня своим необыкновенно длинным указательным пальцем:
— А ты? Ты не бессердечный? — Его неожиданно качнуло назад. — Или ты не поверил?
У меня учащенно забилось сердце. Меня охватило такое волнение, какое бывает у начинающего актера, стоящего впервые у рампы. Значит, этого разговора не миновать. Вот оно, то мгновение, которого я так опасался и вместе с тем ждал все эти три года. Я должен отчитаться перед собственной совестью, оценить свои помыслы и поступки. Ведь в нашей встрече это было самое важное. До сих пор мне удавалось уклониться, уйти от беспощадно прямо поставленного вопроса. Это не представляло трудности, ибо все способствовало этому, помогало уйти от ответа. Оттянуть. В годы массовых арестов идешь, бывало, на прием, собрание или совещание и прежде всего смотришь, кого уже нет. Но этот тревожный беглый взгляд все прятали за любезными улыбками. Спрашивать было не принято. Не принято? Чудовищное слово. Но самым чудовищным было то, что никто даже не пытался и заикнуться… Что это? Только ли трусость? Думаю, нет… И вот теперь мне предстоит разобраться, что же это было. Так было удобно. Весьма удобно. Если уж нельзя спрашивать у других, то к чему спрашивать у самого себя? Повсюду в стране народ одерживал успех за успехом, имелись немалые достижения. Строился социализм… «Видимо, все это требует жертв, издержки неизбежны…» Гремели бурные аплодисменты, и они заглушали голос совести. Только ли в этом дело? Но теперь-то мы докопаемся до корней. Обязаны докопаться.
На дворе хлынул дождь; стремительные струи стекали по оконным стеклам. Мне вдруг представилось плачущее лицо Ольги. Должно быть, слезы точно так же текли по ее лицу, когда она стояла там, возле кровати, с подушкой в руках.
— Бессердечная! Бессердечная женщина! — повторил я, зябко поеживаясь, и теперь уже сам наполнил рюмки.
— Ты поверил? — прозвучал настойчивый вопрос.
— Да, поверил. То есть… — И я хотел было начать перечислять, вернее, формулировать те вопросы, на которые нам предстояло найти ответ.
— Оставь это мерзкое «то есть»! — Он медленно приближался ко мне, выставив вперед длинный указательный палец. Я невольно встал. Сверкнула молния; передо мной за спиной Дюси по оконному стеклу сбегали все более обильные струи дождя. Дюси, подойдя ко мне вплотную, приставил указательный палец к моей груди, как ствол пистолета, и хрипло спросил:
— Поверил или нет?
— Поверил… — Это прозвучало как «сдаюсь», когда человек поднимает руки вверх. Дюси какое-то мгновение еще стоял, приставив палец к моей груди, потом рассмеялся: