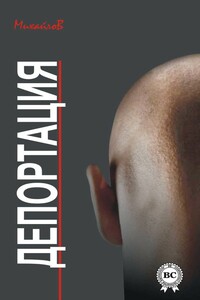Но здесь бывали не только художники и скульпторы. Писатели, журналисты, актеры, люди всех чинов и рангов тоже заглядывали сюда. В любое время дня тут можно было застать несколько человек: они дымили сигаретами, пили горьковатый чай, бог знает на каких растениях заваренный Ленке, женой Пишты. Она заваривала его целыми ведрами. За чаем велись бесконечные беседы о том, как избавить мир от всех бед и зол. В последнее время я приходил сюда реже: уж очень раздражали меня эти перманентные сеансы.
И на этот раз у них в квартире тоже, что называется, дым коромыслом стоял. Но сейчас это оказалось как нельзя кстати, ибо я с головой окунулся в знакомую среду, и у меня сразу отлегло от сердца. По мастерской, куда я вошел, между огромными греческими и римскими гипсовыми фигурами и торсами носились дети Пишты. Они играли в лошадки, со страшным скрежетом двигая перед собой стулья. В углу, время от времени шикая на них, верхом на стульях сидели несколько человек, прильнув к радиоприемнику.
— Дружище! Дорогой ты мой друг! — широко раскрыв объятия, бросился ко мне Пишта Вирагош. — Странствующий рыцарь! Ты пришел как раз вовремя, в столь исторический момент… — И он обнял меня своими длинными руками. Его худощавое скуластое лицо расплылось в широкой улыбке, и даже обвислые татарские усы выглядели сейчас не печально, а торжественно. Все это не удивило меня, ибо Пишта всех встречал именно таким образом. Он причислял себя к анархистам, но анархизм его проявлялся в безудержном темпераменте, который он искусственно подогревал в себе. Он где-то вычитал или услышал, что важнейший элемент искусства — это страстность. С тех пор он проявлял страстность своей натуры всегда и во всем. Пожалуй, даже в своих мечтаниях.
Подошел ко мне и Фери Фодор.
— Ты уже слышал?
— Что?
— Да то, что мы выскочили из войны, — сообщил он и потащил меня к радиоприемнику. Из репродуктора доносился хриплый, немного взволнованный голос: «Мною принято решение отстоять честь венгерской нации, даже наперекор бывшему германскому союзнику, который вместо обещанной им соответствующей военной помощи намеревается окончательно лишить венгерскую нацию ее самого величайшего достояния — свободы и независимости. Вот почему я довел до сведения здешнего представителя Германской империи, что мы заключаем перемирие со своими бывшими противниками и прекращаем против них всякие военные действия…»
Я вопросительно посмотрел на Пишту, потом на Фери.
— Воззвание регента! — пояснил Фери.
Находящиеся в комнате люди зашикали на него.
Большая комната, похожая на просторный зал, залита солнцем. Окна выходят на Дунай; сквозь занавески видны прерывистые очертания зданий крепости, напоминающие рисунок пунктиром. Сквозь занавес Рыбацкий бастион кажется фантастическим сказочным замком, в котором заточена заколдованная принцесса и ждет своего избавителя — отважного княжича или королевича. По Дунаю тяжело тащится моторный буксир; словно трудолюбивый муравей мертвых жуков, он тянет вверх по реке несколько барж, почти до самого края бортов погрузившихся в воду. По набережной Дуная под каштанами с поржавевшей листвой бежит трамвай. Все залито ярким светом: небо, водная гладь Дуная, автомобили, мчащиеся по Цепному мосту. Как будто октябрь после ночного дождя надел весенний наряд.
У меня есть время для созерцания. Едва мы уселись за курительный столик возле массивного письменного стола, как зазвонил один из многочисленных телефонных аппаратов, торопливо, настойчиво. Не успел Андраш положить трубку и вернуться на место, как зазвонил другой аппарат.
— Пересядем туда, — предлагаю я Андрашу, кивая в сторону, где стоит стол заседаний.
Он машет мне — мол, сиди на месте — и говорит в один из телефонов:
— Никого не соединяйте! — Затем, виновато улыбаясь, поворачивается ко мне. — Прямо сумасшедший дом какой-то! Особенно сейчас, когда стали пересматривать нормы.
— Трудно?
— Нелегко. Проще было бы повысить заработную плату. — И добавил: — Никто не хочет решать, брать на себя ответственность. Со всяким пустяком бегут ко мне.
«Теперь, — думаю я, — он тяжело вздохнет, устало проведет рукой по лицу, дескать, вот какие мы мученики». Но мои злопыхательские ожидания не оправдываются. Андраш смотрит на меня без всякого предубеждения, дружески, приветливо.