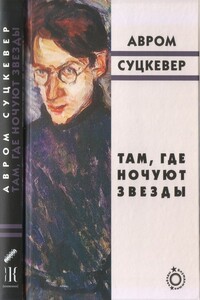Ангел смерти караулит там, во тьме… Смерть ждет каждого, кто осмелится выйти из городка навстречу ночи…
Вот вырисовывается уже из мрака последняя крестьянская хатенка, та самая, в левой половине которой живет уже второй год Шац, акушерка из Литвы, живет душа в душу с хозяйкой — деревенской бабой.
Единственное освещенное окно в задней, выкрашенной в желтую краску стене избы врезывается уже красным пятном глубоко, глубоко в ширь полей, глядит на те бесшумно скользящие мимо телеги, что возвращаются откуда-то издалека на ночь домой, и навевает медленные, печальные, усталые мысли: «Много есть людей несчастных, озабоченных, неудовлетворенных… Но жить… жить можно кое-как и в одиночестве, на окраине заброшенной, глухой деревушки, жить, стиснув зубы и иронически улыбаясь, так, как живет за этим окном, освещенным красным светом, двадцатисемилетняя уроженка Литвы, акушерка Шац».
В темном шерстяном немного длинном пеньюаре с голубыми лентами накрест, завязанными высоко на груди широким бантом, лежала акушерка Шац на кровати, куря папиросу и с иронической усмешкой о чем-то раздумывая. Акушерка Шац постоянно курила и постоянно о чем-то размышляла, иронически усмехаясь.
За столом, на котором стояла лампа, сидел помощник провизора Сафьян; лицо у него было, как всегда, бледное, с еле заметным румянцем; выпученными глазами обиженно уставился он в пламя лампы.
А под столом нервно дрожали у него колени… Он только что высказал серьезную мысль:
— Когда я вижу, что женщина курит, мне прежде всего приходит в голову: вот женщина, которой нужен алкоголь.
В сущности, акушерка Шац могла бы хоть на минуту призадуматься над его словами и что-нибудь ему ответить. Но она прислушивалась теперь к лаю собаки, накинувшейся на кого-то во дворе, а потом встала с кровати и, не вынимая изо рта папироски, встретила с улыбкой входящих Миреле и Липкиса. Так стоило ли ему еще сидеть здесь с дрожащими под столом коленками?
И он, в самом деле, поднялся было со стула и хотел пожелать всем спокойной ночи, но Миреле удивленно взглянула сперва на акушерку, а потом на него и, не раздеваясь, с порога спросила:
— Что же вы? Неужели вы так боитесь аптекаря — поповского зятя?
Пришлось этому нервному господину посидеть еще немного с обиженной миной и послушать, как болтает с Миреле акушерка Шац, не глядя на него и пуская клубы дыма прямо на низкие балки потолка.
— Это говорят ей не только они; все знакомые, кто сюда ни попадет, оглядевшись кругом, приходят к заключению, что она, акушерка Шац, устроилась отлично. А она сама и подавно это знает. Сказать нечего, ей здесь, точно в раю живется.
Каждый раз, когда Миреле заводила разговор с помощником провизора Сафьяном, акушерка, сидя на кровати, придвигалась всем своим стройным телом к Липкису и толкала его локтем в бок:
— Эх, Липкис, Липкис! Беда мне с вами, да и только.
Она, видно, хотела дать ему понять, что ей известно все, что происходит между ним и Миреле; и тихонько про себя посмеивалась. А он, и без того раздраженный, сидел, как на иголках и, наконец, выпалил:
— Да кто вам дал право? Чего вы ко мне в душу с сапогами лезете?
У юного помощника провизора Сафьяна коленки под столом запрыгали пуще прежнего, и он, волнуясь, сказал:
— Ну, пора отправляться… В конце концов, нужно же когда-нибудь явиться в аптеку…
Он вышел оттуда с выпученными от волнения глазами: казалось — еще мгновение, и глаза эти выскочат из орбит.
Акушерка Шац сказала ему вслед:
— Глупый мальчик… вот так глупый…
И тотчас же, позабыв о нем, снова принялась рассказывать о себе:
— Как-то на прошлой неделе встретилась я у пациентки с вечно занятым доктором Крашевским и говорю ему: если вы, доктор, поедете со мной к одной бедной женщине, я за вас замуж выйду.
Такая уж натура была у этой девушки с гладко причесанными волосами и хорошеньким, подвижным, веселым личиком: целыми часами могла она рассказывать о себе забавные истории, не задевая, в сущности, ни словечком своей внутренней жизни. Должно быть, от предков своих — уроженцев Литвы — унаследовала она это свойство. И оттого каждому, кто глядел на нее, приходила на ум незнакомая ее семья, и, как сквозь сон, вспоминалась восьмидесятидвухлетняя бабушка, птицеобразная, иссохшая, крохотная старушонка, которая в прошлом году летом приехала к ней и гости и прожила с нею в этой комнате целых два месяца.