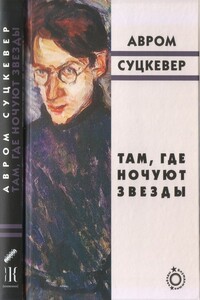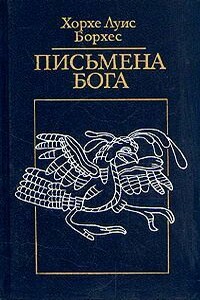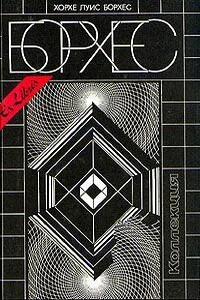Целые дни просиживала старуха, полузакрыв глаза, на высоко взбитых подушках постели, и выглядела издали, как измученный заморский попугай, изнывающий от тоски по родине и вечно грезящий о далеких краях. Казалось, она спит по целым неделям долгим, непрерывным птичьим сном и не слышит, что происходит вокруг, не видит местечковых молодых людей, захаживающих к ее внучке и болтающих с нею о разных вещах. Некоторые были уверены, что старуха глуха, выжила из ума и давным-давно уже потеряла дар речи.
Но однажды девушки и молодые люди засиделись особенно долго, рассуждая о себе и о своей жизни; и, когда наступила продолжительная пауза, вдруг все вздрогнули от неожиданности. Старушка, сидевшая за спиной гостей, открыла впалый рот, и в комнате явственно раздался ее деревянный голос, сонный и тягучий, словно доносившийся откуда-то издали, из-под груды развалин:
— Внучки мои, чем меньше человек говорит о себе, тем меньше говорит он глупостей.
Таким странным показалось всем то, что вздумалось вдруг высказать старушке. Но внучка ее, акушерка Шац, не выказала ни малейшего удивления. С улыбкой поправила она подушки за спиной старушки и, не переставая улыбаться, прокричала ей прямо в ухо:
— Знаю, бабушка, знаю…
Целый вечер без умолку тараторила акушерка, рассказывая разные истории о себе и о своем дяде — набожном и добродушном человеке.
Приходит к ней, бывало, этот дядюшка и говорит: — ну что ж, Малка, голубушка? Так-таки никогда и не выйдешь замуж? Жаль, право, жаль…
Миреле сидела рядом с акушеркой, рассеянно прислушиваясь к ее речам, и все думала о себе, о пустыре, где гуляла вечером, и вспомнилась ей тихая и грустная повесть ее жизни — с самого детства…
Единственной дочкой-баловницей росла она в доме Гедальи Гурвица… Все ей чего-то хотелось — и вот на семнадцатом году стала она невестой Вовы Бурнеса… Но этого было ей мало — и она уехала в город и начала учиться, как другие девушки… Но не помогло и это — она вернулась домой и как будто увлеклась здесь Натаном Геллером… Но неудовлетворенность все оставалась, и все думалось ей, что будущая жизнь должна быть совершенно иною. Как-то раз сказала она Натану: «Из этого ничего не выйдет; лучше бы вам отсюда уехать». А жениху своему отослала обратно тноим… Снова освободилась от уз, вернулась к ней померкшая было воля… И вот бродит она целыми днями по окрестностям города, а Липкис ковыляет за нею… А теперь сидит здесь, у акушерки Шац, живущей уже второй год в чужой хатенке, на глухой окраине деревушки.
Как будто никаких особенных горестей не было ни в ее жизни, ни в жизни акушерки Шац. Но и никакими особенными радостями не тешила их обеих судьба, и потому нельзя без грусти думать о себе и об акушерке Шац, о безвестных юных годах ее, проведенных где-то в Литве, в кругу безвестной семьи, и хочется тихо сказать: «Знаете, Шац, вы странный человек».
— Шац, вы как думаете? Мне кажется, вас так и в гроб положат с этой иронической усмешечкой на губах.
Акушерка, взяв гильзу из коробки, набила себе новую папиросу. Закуривая ее над лампой, она искоса взглянула на насупившегося Липкиса и улыбнулась насмешливо-примирительно:
— Странности есть у каждого.
Она, по-видимому, собиралась рассказать о человеке, вся жизнь которого была вереницей странных поступков. Она могла бы порассказать немало об этом знакомом своем, одиноком, молодом, полном сил писателе Герце, пишущем по древнееврейски: летом околачивается он всегда где-то в глухой, заброшенной швейцарской деревушке, а зиму проводит в маленьком литовском городишке, где его покойному деду-раввину давно уже поставлен памятник на общественный счет.
Очень похоже было на то, что акушерка потерпела крушение именно в любви своей к этому юноше, уже разуверившемуся во всем, и какая-то неприятность вышла у них два года назад; тогда пришлось ей скрепя сердце покинуть родной городок и переселиться сюда, на окраину глухой деревушки.
Миреле придвинула стул ближе к кровати, где удобно уселась акушерка. А мысль Липкиса занята была будничными расчетами: «Мать все толкует, что нужно сшить себе хоть полдюжины рубах… Эх, сколько ни зарабатывай, в конце концов не хватит даже на то, чтоб в будущем году зимой поехать в губернский город…»