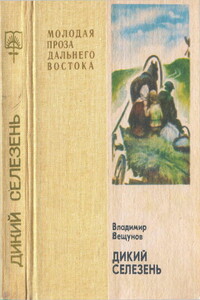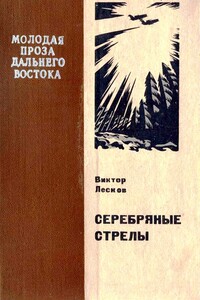— Дай-ка, — Михаил ударил чашку об чурбак, потом еще раз и разломил пополам. Сапогом разбил половины, осколки покидал за сарай на навоз.
— Э-эх, шалапут! — укорила Вера. — Из чего борова теперь кормить?
Деревенька как гребень с выломанными зубьями: между рублеными домами — полуземлянки, из окошек которых виднелись горшки с чахлыми цветами гераней и мокрых ванек.
Михаил кивнул на штабель бревен, сложенный, посреди деревни.
— Во богатство! Четыре дома с весны начнем. — И, хохотнув, добавил — Тимка-то с Вовкой… Справки им выдали — в зубы их, справки-то, да как чухнут! Рады не рады!.. В городе дома строят.
— Я ж им писал, чтоб после армии не возвращались…
— «Писал». Они, дураки, поженились. Баб-то колхоз не пускал.
— Да не имели права!
— Ладно тебе про права! — с досадой оборвал Михаил. — А то ты не знаешь.
— Я от людей слыхал, будто в других краях колхозников не держали.
— То разве колхозы? В лесах да на суглинках. С них возьмешь что с паршивой овцы шерсти. По три пуда ржи сеют. Служил с одним. Голодно, говорит, хлебушка мало, а картошки с молоком хоть завались, — говорил Михаил раздраженно. — К нам бы их, в хлебный край. Тут бы они завалились!
— Егор-то как?
— Да что Егору: как сайку с колбасой ел, так и теперь ест. На паровозе все. Он молодец, смикитил: с фронта — да от вольного нашего места подальше, в тесный паровоз. Ну вот, здоровайся.
Братья встали перед хатенкой, и она, плоская, не загораживала простор. Поверх дерновой крыши с чуть заметным скатом виделась даль: озерко и степь. С закругленных углов обсыпалась глина и гнилой хворост, обнажив колья внешней стены. Из отверстий вытекала земля, и через дыры серел плетень уже другой стены, жилой.
— Коровы чешутся — ободрали. — Михаил пнул в стенку, и из отверстий с шорохом посыпалась земля.
— Села.
— Да нет — ты отвык.
Широкий, похожий на щель, оконный проем всосал в себя раму с десятком шипок величиной с ладонь.
Избушка тяжело глядела в степь, и Николаю показалось, что она так устала, что и свет ей не мил. Николай и сам почувствовал какую-то тесноту в душе. Выжелтились, обтрепались камыши; озеро вроде бы оголилось, стало просторней, а за озером та же желтизна, чернота зяби да далекая синь чахлых березняков.
— Рано что-то заосенило, — оглядывая даль, сказал Михаил. — А отец хорошее место для избушки выбрал. Сам-то где жить думаешь?
— На шахту пойду, сюда не вернусь.
— Ну и правильно, — одобрил Михаил. — Хватит это… На век хватит.
— Сам думаешь куда?..
— Да нет, куда мне? И тут налаживается, сам видишь. Да и с матерью надо считаться. Вот вы, как воробьи, во все стороны. Что ж ей, на куски рваться?
— Тогда останусь.
— Вот — «останусь». Нацелился — стреляй. Мать узнает, что поневоле остался, еще хуже изведется. А ее с места трогать не след. Она каждую неделю на могилы ходит.
— Чо топчемся, давай сядем.
Сели у окна с южной стороны на обсыпок-завалинку. Молчали. В стене шебаршили мыши, обсыпалась земля. Ветер пищал в бурьяне, которым порос погреб.
— Я, Коль, что думаю: попросить в правлении пару бревен да братанам памятник поставить. Сгорнуть на кладбище кучку, а в нее треножник. Сверху — звезду или крест. Не должны отказать — если бы для одного там или двоих, а то — пятеро. Да и отец свою смерть с войны привез, и Степан рядом. Для семерых и будет. А что, пойдем завтра, — спохватился Михаил. — Ты — солдат, льгота будет… Дадут!
Николай старательно переворачивал былинкой жучка-щелкунка, на спину, тот махал лапками, как бы прося пощады, щелкал спиной, становился на лапки и снова оказывался на спине.
— Чего молчишь?
— Не дело задумал ты, Миша. — Николай отбросил былинку. — Ты что, мать догробить хочешь; пятерым похороны снова устраивать?
— Какие похороны? Памятник!
— А если они для нее живые?
— Правда. Как-то недотумкал. Письма заставляет читать, а потом слез… — Михаил махнул рукой. — Кэх… Я и так и сяк, мол, беречь надо — изнашиваются. Где! Ладно — сама читать не умеет, а то бы…
— Что тут поделаешь… Хворает?
— А то нет? Топчется, топчется — хлоп, то ли дышит, то ли не дышит? Глядь — уже в огороде копается или с внучатами.