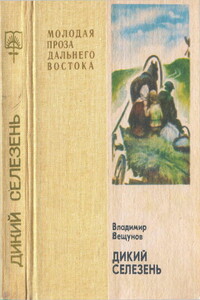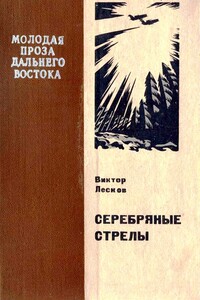— Хороший был поп, веселый, — посмеялся Николай.
— Тык чего ж не веселый.
Николай в семье последний, тринадцатый. Родители будто предвидели и голод, и войны, и впереди хорошую жизнь — нарожали столько детей, что пятеро из тринадцати смогли прорваться к этой жизни. В двадцатом тиф унес сестру Софью, в двадцать втором не выдержал голода Матвей, а потом ничего, долго держались, тридцать третий страшный пережили без потерь. Мать, бывало, клубится, клубится — орава-то большая, хоть и дисциплина была, да нет-нет один что напакостит, другого в чужом огороде прихватят. И сорвется мать:
— У людей умирают, а тут ни одного паралич не возьмет, громом не расколет, моченьки моей нету больше!
А в тридцать девятом Степан полез в подполье за картошкой, а вылез уж черный весь, свалился на пол. Отец шикнул на всех, чтоб не подходили к Степану, в тулуп его завернул да в чулан унес, не велел никому туда заглядывать. Чума скосила Степана на третий день. Схоронили не по порядку, спешно, а мать молоком отпаивали да водой отливали, все волосы на себе рвала. Николай уж позже понял что к чему, а тогда ему страшно не было, только на кладбище закричал:
— Зачем Степку закапываете! Ему холодно!
Степан больше всех с Николаем нянчился: на закорках к озеру носил, за земляникой в степь, в рощу… Уж сорок стукнуло, а помнит, как все старался держаться за белые сосульки волос Степана, когда сидел на нем верхом, а тот все просил:
— Ты за уши держись, пузатый, больно волосья-то!
Война выгребла из семьи пятерых, а можно сказать — шестерых: отцу осколками позвоночник побило, и он умер в сорок восьмом. Один Егор вернулся, тоже сильно израненный. С виду целый, а во внутренности насыпало ему железа.
Мать читать не умела и точного дня, когда кого рожала, не помнила. Этого «принесла» на Ивана-постного, другого на Егория-холодного, третьего на воздвиженье-осенины — в огороде уже успели все убрать, а детям и в голову не приходило узнавать свой день, так же, как не было надобности узнавать дни недели, ибо время сливалось в ровный поток труда и жизни.
В пятьдесят четвертом году Николай приехал из армии в десятидневный отпуск. Брат Михаил уже избу срубил о трех окнах, переволок из родимой землянки наследство: окованный сундук, стол с ножками крест-накрест, изрезанную до углубления скамейку, на которой отец всю жизнь резал табак, щербатый полутораведерный чугун, пяток кринок, горшок и черную, как корыто, деревянную чашку.
— Ну, братан, — торжественно объявил Михаил, — молись богу — теперь ты свободный.
— А что я, не свободный был? — удивился Николай.
— Ну, вообще-то свободный — ты в армии. Мог бы и не возвращаться в колхоз, но…
Михаил вынул из сундука холщовую сумку с «документами», выложил на стол ворох налоговых обязательств и квитанций.
— Во, видел, сколько долгу?! Одним махом государство нам простило. Разве бы ты оставил меня, коль не простило, а?
— Чего об этом…
— Ну, вот… Теперь где хочешь, там и живи. Эх, батя не дожил до этой радости. — Михаил поглядел туда-сюда, как бы желая увидеть отца. — Не дожил.
— Перед смертью-то чего сказал. — У матери на подбородке напругли бугорки, губы задергались — «Старуха, грит, хлебушка жалаю… пышанишныва». Я к Микиткину, по дворам… Кум Фирюлин пышку из озадков дал. Есть не стал. Гордый он у нас был.
Плакала неслышно под навесом тряпицы-платка. Михаил скомкал налоговые документы, кинул к печке, а потом стал сдвигать в ворох квитанции.
— Не надо, сынок, — испугалась мать. — Спаси-помилуй, ну-к все возвернется?
— Не возвернется: все, мам…
— Пускай полежат… От греха подальше. Есть не просят.
— Ладно, — согласился Михаил. — Вер, дай тряпку похуже, а то лежат вместе…
Он не договорил, что эти бумаги хранились в одной сумке с письмами и похоронками на пятерых братьев, но все это поняли.
— Пошли родимую посмотрим…
— Избушку-то? — поморщился Михаил. — Чо ее смотреть? Нету под руками бульдозера — давно бы развалил.
На дворе Николай поднял тяжелую скользкую после пойла чашку, стал обмывать в кадке. Михаил, недовольный, ждал.
— Сколько ей? Может, старше нас лет на тридцать. Из России родители привезли. Пятнадцать человек кормила, а?