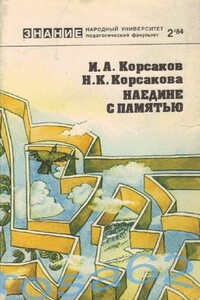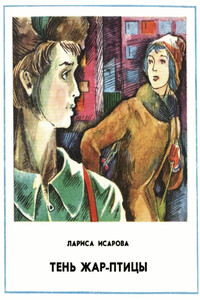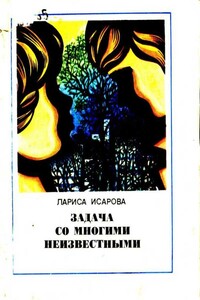— Посмей, посмей так старшим отвечать.
Лицо Володи вдруг стало холодным, скучным, а Галя с ненавистью смотрела на Нюру, и по щекам ее текли слезы.
— А это чего намалевано? — Нюра хотела взять рисунок Володи, но Галя выхватила его, чуть смяв уголок. Потом бережно разгладила картинку и ушла в палату, согнувшись на правый бок.
— Зачем вы это сделали? — спросила я тихо, с отвращением глядя в тупое самодовольное лицо Нюры.
Она засмеялась, поблескивая золотыми зубами.
— А чего такого? Если у ее матери ветер в голове, так хоть люди должны присмотреть. Это же надо, в двенадцать лет и уже любовь всякая в голове, ни понятия, ни совести, как себя соблюдать.
— Как вам не стыдно!
— А уж она и так и этак к нему ластится, и волосья крутила — перекрутила, а я — все молчи?! Нет, девка, мы к этому, не приучены, у меня разложение не пройдет…
— Замолчите! — крикнула я громко, на нас даже больные, гулявшие в коридоре, оглянулись.
— Но, но, раскомандовалась! — Нюра хотела упереть руки в бока, но согнулась. Аппендицитный шов не давал нам полной свободы движений.
И тогда я сбежала, да, позорно сбежала в палату, я не умела спорить с такой женщиной.
А ночью я проснулась от плача в нашей палате и от голоса Володи.
— Ну, чего ревешь? Ты не должна реветь, уже большая девочка.
Всхлипывания Гали продолжались, но тише.
— Думаешь, я на всякие глупости внимание обращаю, а я им и значения не придаю. Вот разные люди разные вещи не выносят. Иногда — запахи, иногда не все есть могут, а я несправедливости не выношу…
— Так это тоже несправедливо, — довсхлипывала Галя, — такое сказать, я же девочка, а вы дядя.
— Правильно, я тебе в папы гожусь. Сколько твоей маме лет?
— Скоро тридцать.
— А мне двадцать два, почти однолетки. Так?
— Ага! А вы давно решили доктором стать?
— Давно. Я еще в детстве животными увлекался, змей собирал, кошек бродячих, петухов.
Я тихонько засмеялась, представив его с петухом в руках.
— У нас в Армении любят ярких петухов, бои даже устраивают, вот я их после боя и зашивал, простой ниткой. И ничего, заживало.
Галя заворочалась и зашептала:
— А зачем вы учитесь? Вы же и так столько знаете?
— Смешная ты! Вот я смотрю, как старые сестры работают, и завидки берут. Я еще не умею, как они, внутривенные вливания делать. Точно, с одного раза нащупать иглой вену. А ведь тот не врач, кто все сам не сумеет при случае больному сделать, помочь.
Заскрипела кровать тети Даши, она долго и натужно переворачивалась…
— По-моему, каждый человек, если он себя уважает, должен делать свою работу на совесть. Ты со мной согласна?
Галя засопела, и Володя, неслышно ступая, вышел из палаты.
А потом начали собираться домой. Галя мне помогала, болтая:
— У меня целый класс на руках, первый класс, такие маленькие, как цыплятки. Они мне проходу не дают, бегают и на перемене и домой, а когда двойки получают, я их воспитываю.
Она сделала важное лицо, отчего оно стало еще смешнее.
— Я прихожу сказки им читать, а кто двойки получил, велю выйти за дверь. Ну, они, конечно, обещают исправиться, тогда, я конечно, прощаю, но строго так говорю, чтоб понимали.
Когда я сложила вещи, Галя показала мне картинку, которую рисовала все свободное время: букет цветов и надпись сверху — «Дяде Володе от Гали на вечную память…» И сказала, что упросила мать забрать ее к вечеру, чтоб с ним попрощаться, — Володя приходил на дежурство только к пяти часам. И мать ее вроде поинтересовалась — веселый ли он? И она сказала, что и веселый, и сильный, и незамужний, и она велела матери волосы причесать в парикмахерской, чтобы дядя Володя «мамку красивой повидал». Только платье голубое в цветочках мамка не хотела надеть, потому что прямо из цеха приедет, а я ей сказала: «А ты его в сумку сложи, а как душ примешь, так и надень. Учти, иначе я не поеду с тобой…»
Я слушала Галю с грустью. Мне нельзя было задерживаться с выпиской. А я так привязалась, привыкла к этой смешной девчонке, у которой душа нараспашку. Именно из-за нее я поняла вдруг, какое это счастье — иметь отца. Особенно такого заботливого, как мой. Я ведь видела, какими глазами она на него смотрела, когда он навещал меня…