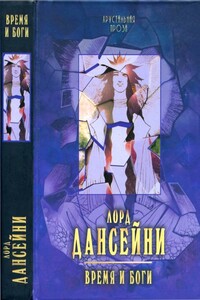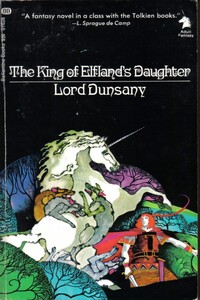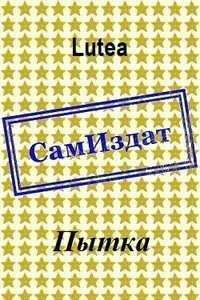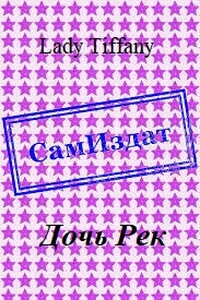Старик скрюченными пальцами взял шкатулку. Подняв руку, похожую на когтистую лапу, он хриплым голосом поблагодарил ученика; в пещере, ни на минуту не прекращаясь, слышался шум автобуса; издалека доносился гул — это поезд сотрясал Слоун-стрит.
— Пошли, — произнес старый чародей, — пора.
И они тут же покинули свою сырую пещеру. Ученик тащил котел, золотую кочергу и прочие необходимые вещи. Они появились на улице средь бела дня и направились на окраину города. В своих шелковых одеждах старик выглядел диковинно. Он шел первым, широко шагая, а ученик бежал сзади. В самой поступи чародея чудилось что-то колдовское, если даже пренебречь его удивительным одеянием, котлом и волшебной палочкой, спешащим учеником и маленькой золотой кочергой.
Мальчишки смеялись над странной процессией, но встретившись взглядом со стариком, мгновенно замолкали. Чародей с учеником прошли по Лондону слишком быстро, чтобы кто-либо сумел последовать за ними. Действительность оказалась гораздо хуже, чем можно было предположить, сидя в пещере, а по мере их продвижения к лондонским окраинам город становился все омерзительнее.
Наконец они вышли на край Лондона, к поджидавшему их небольшому мрачному холму. Холм выглядел настолько неприветливо, что ученику чародея тут же захотелось снова оказаться в пещере, какая бы она ни была сырая и какие бы страшные проклятия ни изрыгал во сне чародей.
Они взобрались на холм, поставили на землю котел, разложили все необходимое и разожгли костер из трав, которых не найти ни у одного аптекаря, которых не выращивает ни один приличный садовник, и стали помешивать в котле золотой кочергой. Чародей отошел от костра и принялся что-то бормотать, затем снова шагнул к костру и, когда все было готово, открыл шкатулку и бросил ее содержимое в кипяток.
Затем он произнес руны, затем воздел руки и, как только пар от котла проник в его разум, стал яростно выкрикивать неизвестные ему дотоле заклятия, которые были так ужасны, что ученик каждый раз вскрикивал. Чародей проклял весь Лондон: от тумана до глиняных карьеров, от самой высокой точки в небе над городом до глубочайших бездн под ним, все его автобусы, все фабрики, магазины, парламент, всех его жителей.
— Да сгинут они все, — говорил он, — да расточится Лондон, да исчезнут его трамвайные рельсы и булыжные мостовые, и тротуары, что так давно заменили собой поля, пусть развеются они, как дым, и пусть вернутся дикие зайцы, и ежевика, и шиповник.
— Да сгинет все это, — закончил он, — исчезнет сию минуту, пропадет без следа!
Старик умолк, откашлялся и стал ждать, напряженно глядя на город; а Лондон продолжал шуметь, как шумел с той поры, когда у реки появились первые крытые тростником хибарки, теперь шум города стал громче, чем в прежние времена, Лондон шумит и грохочет ночь и день напролет, хотя его голос с годами стал хриплым; итак, город продолжал шуметь.
И старик повернулся к дрожащему от страха помощнику и произнес ужасающим голосом, в то время как его затягивало под землю:
— ТЫ ПРИНЕС МНЕ СЕРДЦЕ НЕ ТОЙ ЖАБЫ, ЧТО ЖИЛА В АРАВИИ У ПОДНОЖИЯ ГОР ВИФАНИИ!
Однажды в апреле, в Провансе, сидел я на невысоком холме, возвышающемся над древней башней, что некогда воздвигли готы и вандалы, и с тех пор никто не удосуживался «усовершенствовать».
На холме стоял старый полуразрушенный замок со сторожевой башней и колодец с узкими ступенями, все еще действующий.
Сторожевая башня, глядящая на юг пустыми окнами, была обращена к широкой долине, исполненной приятных сумерек и умиротворенных вечерних звуков; она видела костры странников, мерцающие на холмах, а за ними — длинные темные полосы сосновых лесов, появление первой звезды и темноту, медленно окутывающую Вар.>{26}
Сидя там и прислушиваясь к кваканью зеленых лягушек, ясно слыша далекие голоса, звучащие вечером по-иному, глядя на окна башенки, поочередно отблескивающие от заката и наблюдая, как сумерки торжественно превращаются в ночь, чувствуешь, как многие вещи, казавшиеся важными днем, выпадают из сознания, и их место вечер замещает странными фантазиями.