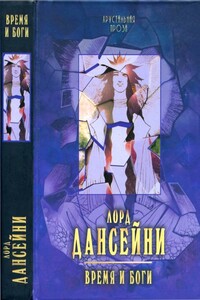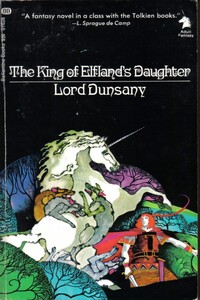Пока тролли вскачь неслись к Земле, чтобы вдоволь похохотать над человеческими привычками, Лиразель чуть пошевелилась на коленях у отца, который, торжественный и спокойный, неподвижно сидел на своем троне изо льда и тумана почти двенадцать человеческих лет. Потом принцесса вздохнула, и ее вздох, разнесшись над сонными равнинами мечты, слегка потревожил покой Страны Эльфов. И рассветы с закатами, смешанные с мерцанием сумерек и бледным светом звезд и служившие зачарованной земле вместо солнца, ощутили эту едва уловимую грусть Лиразели, и их сияние чуть заметно потускнело, ибо и магия, сохранившая все эти источники света, и все заклятия, что связали их воедино, чтобы освещать неподвластный Времени край, не могли противостоять печали, что темной волной поднималась в душе принцессы, принадлежащей к эльфийскому королевскому роду. А вздыхала она потому, что даже сквозь блаженный покой Страны Эльфов донеслась до нее мысль о Земле, и тогда среди всего великолепия зачарованной земли, о котором может рассказать только песня, Лиразель вызвала в памяти образы шиповника, первоцвета и некоторых других трав и цветов, что полюбились ей в знакомых нам полях. И, мысленно вернувшись в эти поля, она представила себе Ориона, отгороженного от нее неведомым числом земных лет и живущего ныне где-то по ту сторону волшебной границы. Все магические чудеса Страны Эльфов, вся ее красота, которую нам не дано представить никаким напряжением фантазии, ее глубочайшее спокойствие, способное убаюкать столетия так, что они спят бестревожно и не чувствуют шпор Времени, все волшебное искусство отца Лиразели, не дающее увянуть ничтожнейшей из лилий, и даже заклятия, при помощи которых король обращал в реальность любые грёзы и желания — все это больше не занимало принцессу, не дарило ей удовольствия и не связывало воображения, которое устремлялось все дальше и дальше за сумеречную границу. Вот почему ее вздох разнесся так далеко над всей волшебной страной, тревожа безмятежно дремлющие цветы.
И король тоже ощутил печаль дочери, услыхал ее разбудивший цветы вздох и почувствовал, как тоска Лиразели всколыхнула глубокое спокойствие Страны Эльфов, хотя и было это возмущение таким легким, что его можно было сравнить только с тем, как заблудившаяся в летней ночи пичуга колышет портьеру окна, чуть касаясь ее тяжелых складок трепещущим крылом. И хотя он прекрасно понимал, что, сидя с ним на троне, о котором можно рассказать только в песне, Лиразель печалится всего лишь о Земле и вспоминает какой-то милый земной образ, сравнивая его с немеркнущей славой Страны Эльфов, это не вызвало в его магическом сердце ничего, кроме сочувствия; так мы жалеем ребенка, который пренебрегает тем, что для нас свято, но может вздыхать по какой-нибудь тривиальной мелочи. И чем ничтожнее казалась королю Земля — беспомощная жертва Времени, которая нынче здесь, а в следующий момент исчезнет; мимолетное видение, проносящееся вдалеке от берегов зачарованной страны; мир слишком коротко живущий, чтобы представлять интерес для отягощенного магией ума, — тем сильнее король жалел свое дитя, грустящее из-за пустого каприза, которому принцесса неосмотрительно позволила увлечь себя и который — увы! — был связан с вещами, обреченными на неминуемое и скорое исчезновение. Да, Лиразель была несчастна, но король не испытывал ни гнева, ни досады в отношении Земли, завладевшей ее воображением. Гораздо важнее было для него то, что самые сокровенные чудеса Страны Эльфов не доставляют Лиразели удовольствия; вздохи ее были адресованы чему-то другому, и его могучее искусство должно было незамедлительно исполнить ее желания. И тогда король отнял свою правую руку от той удивительной поверхности, на которой она покоилась — от поверхности таинственного трона, выкованного из музыки и миражей, — и поднял вверх, и великая тишина пала на Страну Эльфов.
Большие круглые листья в лесной чаще оборвали свой неумолчный шорох, словно высеченные из мрамора застыли птицы и твари, и даже бурые тролли, скакавшие к Земле, вдруг остановились в благоговейном молчании. И среди этой тишины стали вдруг слышны негромкие жалобные звуки, похожие и на тихие вздохи по чему-то такому, чего не в силах выразить никакие песни, и на голоса слез, что звучали бы, если бы каждая соленая капелька ожила и, научившись говорить, попробовала рассказать о неисповедимых путях печали. И понемногу все эти тихие шепоты сплелись в торжественную и величавую мелодию, которую хозяин зачарованной страны вызвал к жизни мановением своей волшебной десницы, и эта мелодия не торопясь рассказывала о рассвете над бесконечными болотами на далекой Земле или какой-нибудь другой планете, неизвестной в Стране Эльфов — о рассвете, который медленно встает среди глубокой тьмы, звездного света и пронизывающего холода, о рассвете бессильном, морозном, не радующем ничей глаз, едва затмевающем сияние равнодушных звезд, наполовину скрытом тенями гроз и штормов и все же ненавидимом всеми темными тварями; о рассвете, рождающемся долго и мучительно, пока в одно мгновение тусклое марево болот и стылое небо не озарятся вдруг золотым светом, за которым хлынет многоцветное великолепие ослепительных красок; и дальше рассвет станет расти бурно, неудержимо, торжествующе, пока самые черные тучи не порозовеют и не поплывут в лилово-синем океане, а самые темные скалы, стерегущие ночь, не засияют ослепительным червонным золотом.