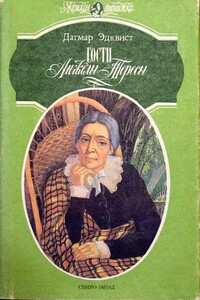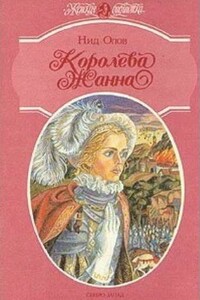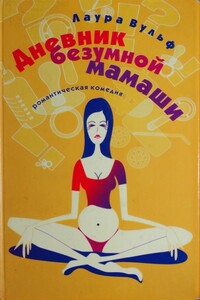Одна Маня примолкла. Угрюмая, измученная.
По дороге в Липовку их застает ночь.
Парк уже иллюминирован. Как гирляндами волшебных цветов, обвиты фонариками аллеи. Огни дрожат и струятся в темной воде озера. Но отступил в сторону на два шага, и тьма.
«Лика… Лика…» — шепчет дядюшка. И тянет ее за руку.
Мамаши растеряли дочек в темноте и немного волнуются. Соня… Соня… Где она? Маня!
— Катя… Вы не видали, господа, мою Катю?
«Ах! Если бы он любил меня! — думает Маня с жгучей тоской. — Вот в этом парке, где мы встретились… в этом самом парке… Обняться… Слиться так страстно… Хоть на одно мгновение утонуть в радости. Такая тьма кругом! Такая чудная тьма…»
Она не хочет оставить их вдвоем. Она идет за ними тенью. «А если он поцелует ее, я кинусь в воду…»
— Мария Сергеевна, — слышится вкрадчивый голос Штейнбаха.
Она чуть не падает.
— Позвольте вашу руку! Здесь темно. Не оступитесь.
Он берет ее, как лед, холодную руку. И чувствует, что она вся дрожит.
Наконец! Наконец! Как нищий, ловит она намек на нежность в его голосе. Или это опять одна любезность? Она ждет, чтоб он прижал к себе ее локоть. Нет. Он равнодушен. «Все равно! — думает она с отчаянной решимостью. — Не оставлю их вдвоем…»
И она сама не осознает, что вцепилась в его руку, как кошка. И держит. Губы Штейнбаха раздвигаются в темноте.
Вот и пристань. Вся горит огнями. Какие в этом освещении у всех странные лица! Чужие и дикие… «О, брови!.. Милые брови!.. Неужели я не поцелую вас, как прежде?»
Десять лодок с флагами и фонариками ждут.
Дамы ахают, оступаются, теряют равновесие, падают в объятия гребцов и визжат. Смех вспыхивает еще ярче.
— Простите… На минутку! — нежно говорит Штейнбах, наклонившись к Мане. Она не понимает. Он тихо освобождается и сам отходит к лодке.
— Что ты на нем повисла? — сквозь зубы шепчет Соня. — Бесстыдница!
— А тебе какое дело? — Глаза Мани пылают. Дядюшка, Климов, Катя, Лика, Анна Васильевна, Вера Филипповна и Наташа Галаган в одной лодке. В другой Штейнбах, Маня, Соня, молодой Ткачен-ко, Роза.
Лика поет. Звонко несется ее голосок по далекому озеру. Эхо парка повторяет звуки. Дядюшка так раскис, что забыл о руле. И лодка их налетает на Другую.
— От-то дурни! — кричит Горленко. — Какой там бисов сын на руле торчит?
— Ах!.. Ах!.. Мы опрокинемся! — вопит Вера Филипповна.
Штейнбах на руле. С одной стороны Маня. С другой — Соня.
Опять эта Соня… Она вешается ему на шею. Как она блаженно смеется! Глупый смех! «Сейчас вскочу… Накреню лодку, опрокину. Всех утоплю!..» Маня еле сдерживает слезы.
— Марк Александрович! Спойте вы! — просят, кричат со всех лодок.
— Пожалуйста! — кокетливо говорит Соня. Штейнбах бросает руль и поет.
Все смолкает кругом. Все слушают напряженно. И люди. И липы. И звезды. И ночь.
Что поет он? Не все ли равно? Тут важны звуки. Тут важно чувство, которое стучится в чужие сердца и будит в них трепет. Жизнь стала сказкой. Всем хочется веселиться. Всех томит жажда красоты. Забвения вещей. Души дрогнули от порывов, которым нет предела. От желаний, которым нет имени.
По лицу Мани бегут слезы.
Штейнбах тихонько в темноте находит ее руку. Какое робкое, милое прикосновение! «Я не противен тебе?» — спрашивает это пожатие. И пальцы ее, впиваясь в его ладонь, страстно отвечают: «Твоя… Твоя…»
Взрыв аплодисментов разносится по озеру. Эхо хлопает и стреляет в парке.
— Bravo! Еще!.. Bis! Bis!
— Удивительно талантливые эти евреи! — восклицает растроганная Аттила.
— Это у них от вырождения, — говорит ревнивый дядюшка.
— Можно пожалеть в таком случае, зачем вырождение дворянства не вылилось именно в таких формах, — подхватывает Климов.
Все хохочут. Лика всех веселее.
— Марк Александрович! Еще о любви! Мы спустились на землю. И ссоримся!
— затягивает вдруг увлекшийся Горленко.
— Тише!.. Тише!.. Потом…
И Штейнбах поет вдохновленный гимн любви. Долго несутся последние высокие ноты над гладью озера. И теряются в торжественном молчании парка.
— Ах, Лика! — как глубокий вздох, срывается у дядюшки.
Он жмет ее руку. И на этот раз девушка не смеется.
И никто не смеется. Не спорит. Все так ничтожно перед тем, что этот голос бросил, как заклятие, в темную ночь. Перед тем, что вошло в душу.