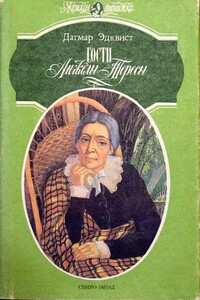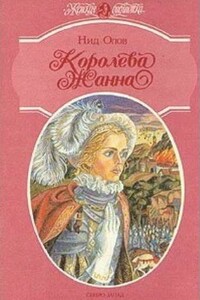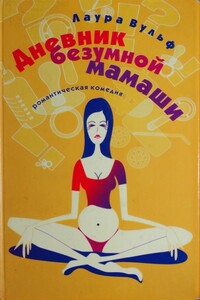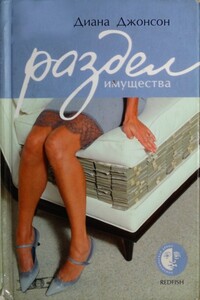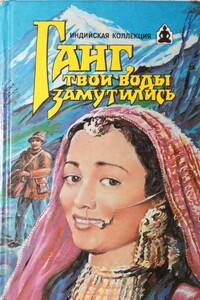— Да. Но… Марк, мне трудно говорить…
— Он думает, что это мое дитя?
— Да, конечно… Ему легче так думать… И потом…
— Это думают другие?
— Марк, не сердитесь! Вы сами задали этот вопрос…
— Словом… — Он на мгновение стискивает побледневшие губы. — Ей нет уже места в обществе вашей матери и ваших знакомых?
Лицо Сони заливается краской.
— Марк, я не могу отвечать за других. Я поссорилась с отцом и мамой, отстаивая мою дружбу. Что я могла сделать еще? Эта ненавистная Катька Лизогуб… ну, да… теперь Нелидова… и Наташа Галаган говорили о ней с таким презрением. О, я с ними посчиталась! Лика, даже Анна Васильевна — все осуждают ее.
— За что?
— За то, что она все-таки уехала с вами. И даже дядюшка, который ее жалеет, говорит, что она скомпрометировала себя безвозвратно.
— Он думает, что лежать в могиле было бы приличней?
— Господь его знает, что он думает! Но в бедность ее они не верят, ни в ее скромную жизнь, ни в ее заработок. Ах! У меня желчь разливается, когда я вспоминаю все, что говорят о ней и о вас.
— Вы показывали им ее рисунки в «Fliegende Blatter»?
— Конечно, да. Но они машут на меня руками. «Кому, — говорят, — охота зарабатывать, когда под рукой миллионы?..» Марк, милый. Будьте, как я! Не надо страдать. Презирайте чужие мнения.
— Я страдаю за нее. Она должна стать чем-нибудь. И заставить их всех глядеть на себя снизу вверх.
— Я ухожу. Мне пора. Когда вы едете к ней? Где она сейчас? — спрашивает Соня, надевая шляпу перед зеркалом камина.
— Я телеграфировал им, чтобы они ехали в Вену и ждали меня в Шенбрунне. Теперь планы изменились. Я отвезу их в Париж, когда жена моя поправится.
— Зачем в Париж?
— Маня будет учиться у знаменитой Изы Хименес. Вы слышали о ней? Нет? Это мимическая артистка. Несколько лет назад она с труппой объехала Европу. Была и в Петербурге. Она дала ряд представлений. Это было что-то потрясающее по трагизму и оригинальности… Это были драмы без слов. Теперь она больна и покинула сцену. Но Маню она возьмется учить.
— Марк, вы хотите, чтобы Маня пошла на сцену?
— Конечно! Искусство распрямит ее душу, залечит раны, сделает жизнь богатой, развернет перед нею возможности. Она будет счастлива… Помните, мы сидели с вами здесь?
— Это было почти год назад. О, конечно, я помню.
— Помните вы книгу Яна, в которой он зовет вас, женщин, на высокую башню? И обещает вам ключи счастья там, наверху?
— Да, Марк. Да. Я не успела еще прочесть эту книгу. Но я ее прочту.
— Маня найдет этот путь, отдавшись искусству. И взойдет на высоту.
— О, Марк! Как это хорошо! Вы помните, как она плясала? Впрочем, что я говорю? Вы не видели.
— Я видел, — глухо говорит он.
Она смотрит на него с удивлением. Его глаза закрыты. Скорбно сжаты брови. Она чувствует, что он страдает. И не смеет заговорить.
Вдруг с хрустом рассыпается пылающее бревно в камине. Искры трещат и сверкают. Он открывает глаза.
— Прощайте, Марк…
— Прощайте, Соня…
Они почти неделю в Вене. Фрау Кеслер наняла в предместье Шенбрунна две комнаты и написала Штейнбаху в Москву.
Осень и здесь прекрасна в этом году. Маня бродит с книгой в мрачном парке Шенбрунна. Но она не читает. Фрау Кеслер, уложив Нину в колясочку, сидит на скамье, в тени каштанов, и вяжет крохотные башмачки. Но Маня уходит дальше. Гладкой стеной подымаются по бокам стриженые акации. На тщательно выметенные дорожки тихонько падают сухие листья. Вдали, за лужайкой, горит золото тополей.
В парке нет ни души. Но для Мани он Полон шепота, трепетания, вздохов. Забывшись, она ищет на гравии следы маленьких ножек на высоких каблуках. Здесь ребенком веселилась Мария-Антуанетта. Здесь грезила молодая принцесса. Она ждала от жизни так много радостей.
Маня давно познакомилась с дворцовым смотрителем. В часы, когда нет публики, она бродит по дворцу, где страдал и умер Орленок, несчастный сын Наполеона I, живой кошмар своих современников. Усатый немец любезно показывает Мане картины, мебель, бронзу, фарфор. Она глядит и не слышит. Рядом звучат быстрые шаги маленьких ног. Сейчас она вбежит сюда, очаровательная пятнадцатилетняя принцесса с гордым профилем и высоким лбом, на котором Судьба начертала роковой знак.