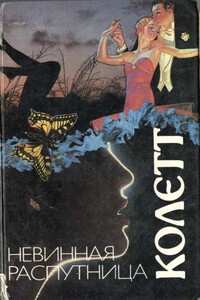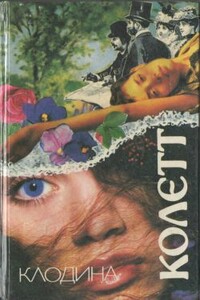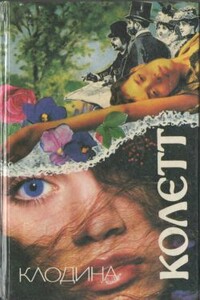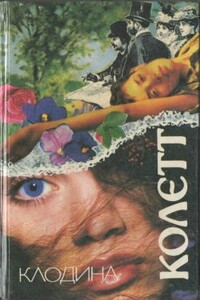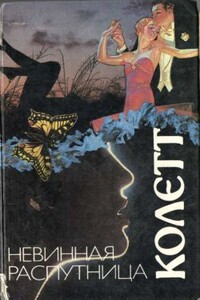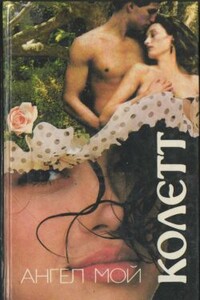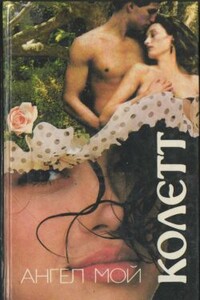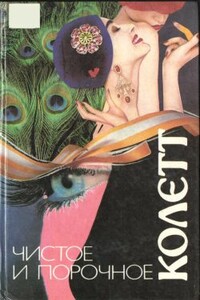Наконец вновь появляются экзаменаторы – они обливаются потом и кажутся уродами! Хуже нет – выходить замуж в такую погоду! От одной только мысли, что надо лежать рядом с мужчиной, липким от жары, как они… (впрочем, летом у нас будет две кровати…). Да и запах в перегретом зале стоит ужасный. Многие из девчонок особой чистоплотностью не отличаются. Так бы и убежала отсюда!
Развалившись на стуле, я в ожидании своей очереди вполуха слушаю, как сдают другие. Я вижу, как одна, самая счастливая, «кончает» первой. Оттарабанив всё как надо, она со вздохом пересекает зал, и вдогонку ей несутся поздравления, завистливые вздохи, возгласы «Вот повезло!». Вскоре тем же путём следует другая, во дворе «освободившиеся» отдыхают и обмениваются впечатлениями.
Папаша Салле, разомлев на солнце, ласково пригревающем его подагру и ревматизм, вынужден простаивать, так как ученица, которую он ждёт, отвечает другому. Попробовать что ли покуситься на его добродетель! Я осторожно подхожу и сажусь на стул против него.
– Здравствуйте, господин Салле.
Он глядит на меня, поправляет очки, прищуривается и всё равно не видит.
– Я Клодина, узнаёте?
– А… Вы здесь! Здравствуйте, милое дитя. Как здоровье вашего батюшки?
– Спасибо, очень хорошо.
– Как экзамены? Всё в порядке? Много ещё осталось?
– Много! У меня ещё физика и химия, литература в вашем лице, английский и музыка. Госпожа Салле хорошо себя чувствует?
– Жена? Она прохлаждается в Пуату. Ей следовало бы ухаживать за мной, но…
– Послушайте, господин Салле, раз уж мы с вами всё равно сидим и разговариваем, сняли бы вы с меня литературу.
– Но я ещё не дошёл до вашей фамилии, ещё далеко… Приходите потом…
– Но какая разница, господин Салле?
– Разница в том, что у меня выдалась минута отдыха, которую я вполне заслужил. И потом, так не положено, нельзя нарушать алфавитный порядок.
– Ну пожалуйста, господин Салле! Да и к чему вам меня спрашивать? Вы же знаете, что я знаю много больше, чем требуется по программе. Я целыми днями торчу в папиной библиотеке.
– Да… это так. Ладно, я пойду вам навстречу. Я намеревался спросить вас об аэдах, трубадурах, о «Романе Розы» и тому подобном.
– Отдыхайте, господин Салле. О трубадурах-то мне известно: я представляю их себе похожими на маленького флорентийского певца,[8] такими вот…
Я встаю и принимаю соответствующую позу, перенеся вес тела на правую ногу, зелёный зонтик папаши Салле изображает мандолину. К счастью, мы одни в этом углу! Люс следит за мной издали, раскрыв от изумления рот. Бедного подагрика моя выходка немного развлекла, он смеётся.
– …на голове у них бархатная шапочка, волосы вьются, костюм часто двухцветный (наполовину синий, наполовину жёлтый – очень красиво), мандолина висит на шёлковом шнуре, они поют вещицу из «Прохожего»:[9] «Милая, вот и апрель». Так я себе представляю трубадуров, господин Салле. Есть, правда, ещё трубадуры времён Первой империи.[10]
– Дитя моё, вы изрядная сумасбродка, но я с вами отдыхаю душой. Однако кого вы называете «трубадурами времён Первой империи»? Только говорите тише, дорогая Клодина: если эти господа нас услышат…
– Я тихо! Трубадуров времён Первой империи я знаю по песням, которые пел папа. Вот послушайте… – И я шёпотом напеваю:
Горяч в любви, и что ему пушки,
Лира в руке, на голове шлем.
Уходя на войну, твердит пастушке,
Чтоб не забыла его совсем.
Мой меч отдаю отчизне.
Тебе же – остаток жизни.
Хотя умереть для любви и славы
Трубадур будет рад в борьбе кровавой.
[11]Папаша Салле смеётся от всей души:
– Да уж! Какие странные были люди! Знаю, лет через двадцать мы будем такими же… но этот образ трубадура с лирой и в шлеме! Бегите, дитя моё, я поставлю вам хорошую отметку, передайте наилучшие пожелания вашему отцу, скажите, что я его очень люблю и что он учит дочку славным песенкам!
– Спасибо, господин Салле, до свидания, ещё раз спасибо, что не стали меня спрашивать, я никому не скажу, будьте спокойны!
Какой славный человек! После этого я немного воспряла духом. Вид у меня такой весёлый, что Люс интересуется:
– Ты, наверно, хорошо ответила? Что он спрашивал? И зачем ты брала его зонтик?