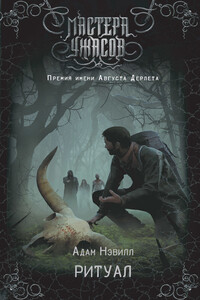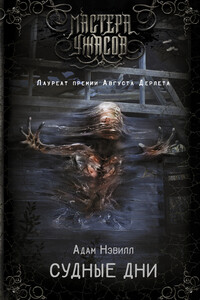Но не этим вечером.
Теперь он мечтал о запахе жареного мяса и керосина, древесного дыма и пузырящегося жира, который наполнит воздух на улице, как только его братья сожгут тела. В этом ритуале он участвовал так долго, что перестал его ценить. Но теперь он тосковал о нем – лучше втягивать носом эту резкую смесь ароматов, чем запахи дерьма, мочи и рвоты, висевшие в убогой комнатенке, которую она называла своей.
С широкой кровати, задвинутой в дальний от окна угол, где тьма была совсем непроглядной, донесся звук ее движения, легкий – наверное, подняла голову, чтобы взглянуть на него, всмотреться в сумрак. Пружины не скрипели, а всхлипывали.
– Мам?
– Мальчик мой, – ответила она своим булькающим голосом, словно вечно полоскала рот.
– Мам, я…
– Поди ко мне.
Он притворился, что не расслышал, потому что у двери было безопаснее, а из-за этого, в свою очередь, почувствовал себя виноватым, потому что знал: если не сдвинется с места, она не поднимется и не подойдет к нему сама. Не могла. Больше двух лет она не покидала свою кровать, ни разу. При свете дня, когда тучи скрывали солнце, а мухи облепляли окно, было трудно понять, где кончается Мама и начинается кровать. Сплошь темнота, с бледными сгустками там и тут.
Эта кровать, как и женщина в ней, господствовали в комнате. Седой Папа говорил им тем же благоговейным тоном, с каким начинал каждый вечер молитву перед ужином, что Мама – святая, великомученица, которая еще не оставила бренный мир. Жилы, пружины, плоть и жир, повторял он им, как строчку из давно забытого детского стишка. Мамы больше нет, говорил он, – той, которую они помнят. Теперь она стала массой гноящихся пролежней, приросшей к матрасу местами, где заросли старые раны и затвердели рваная кожа и гной, словно образовав вторую кожу на ткани и пружинах. Матрас, некогда упругий и мягкий, под ее весом сплющился в тонкий и промятый пополам блин, вонючий, сырой и заляпанный жидкостями, которые годами стекали с тучного тела. Мальчики по очереди мыли ее и обрабатывали раны, ухаживали за ней, выгребали огромные количества фекалий, которые накапливались между огромных бедер, затем слегка, вяло промокали оставшееся пятно и оставляли ее преть в остатках собственных отходов.
Она бесконечно жаловалась, разговаривала сама с собой днями и ночами, иногда едва ли не шепотом напевала грустные песенки, а молчала, только когда ей приносили еду.
От просевшей гнутой кровати прокатились волны вони. Он давно перестал ей предлагать проветрить комнату. Он даже не знал, открываются ли еще окна. По затуманившимся стеклам полз какой-то мерзкий бурый налет, словно от горки дохлых мух поднимались души, и забивался в трещины, как клей.
Но боже, как же он ее любил, несмотря на страх, который она в него вселяла, и несмотря на все, что она сделала, чтобы он раскаялся в своих грехах. Он любил ее больше самой жизни, а про себя верил, что любил ее сильнее всех – сильнее, чем его братья, – хотя вслух об этом не говорил. Также он верил, что был любимчиком и для нее, как бы она ни испытывала эту веру, подвергая его страданиям.
– Ты слышишь, мальчик мой? – сказала она, и он облизал губы, почувствовав шероховатость языка из-за недостатка влажности, а когда втянул его, ощутил гадкий привкус, словно забрал в рот что-то из воздуха.
– Слышу, Мама, – сказал он и сделал несколько шажков к кровати. Половицы под его ботинками скрипели и выдыхали миниатюрные грибы пыли. Откеда пыль, думал он, глядя на развеивающиеся облачка. Пол исходили вдоль и поперек. Так и было, но эта спальня, знал он, прямо как кружевная, но тяжелая черная паутина, свисающая, словно ловец снов, в каждом углу комнаты, цепко держалась за каждую частичку кожи, что падала или поднималась с тела Мамы, а затем ждала темноты, чтобы выложить их сложными узорами и убедить мир, что время течет быстрее, чем кажется, поторапливая Маму к смерти. Убеждая ее, что она забыта. А это, конечно, был главный страх Мамы. Что ее бросят. Что однажды она проснется и обнаружит, что осталась одна в пустом доме, услышит только эхо собственного голоса, который беспрепятственно и безответно возвращается к ней. Услышит собственные панические крики, что просачиваются в лес и теряются среди деревьев, где их уловят уши оленей, белок, соек и койотов, которые учуют ее панику и проследят до источника. Затем, как она рассказывала сыновьям тысячу раз, койоты сожрут ее и разбросают косточки по всей земле, чтобы ее дух никогда не нашел покоя.