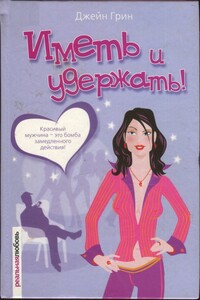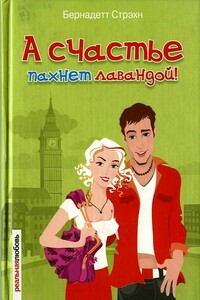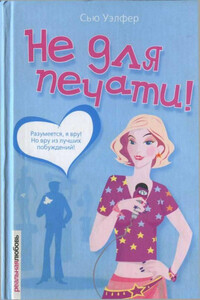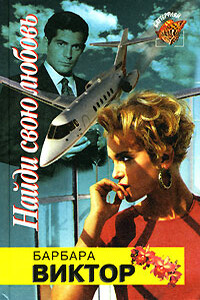— Миссис Грей… Прошу вас. Ей же и так больно.
И мама пристально посмотрела на него снизу вверх, и лицо у нее было белым, напряженным и… испуганным.
— Во всем виноват только ты, — прошипела она, но это прозвучало так, как будто говорила она совсем не с Джоной.
— Во всем виноват ты, — говорит мама Дилену.
— Оставь его, — вопит Джина, идеально имитируя мамин крик. — Оставь его в покое.
— Джина, — говорит Дилен, касаясь ее плеча, — все в порядке.
— Уходи, — говорит ему мама. — Иди домой. Здесь из-за тебя слишком много неприятностей.
Он уходит, но перед этим Джина хватает в ладони его лицо и целует. Мама становится такой же красной, как сердечки на ее рубашке. Этот вызов подростка родительскому авторитету по наглости равнозначен высунутому в церкви языку. Но вот наш переулок освобожден от подростков, и открывается сезон охоты на Уичиту.
Но ничего не происходит.
Мама смотрит на машину.
— Это что, «шеви» Олсонов? — спрашивает она.
Я хлопаю крышкой багажника.
— Не знаю. Это та машина, в которой они приехали в Чикаго.
Тут мама наконец обращает внимание на меня.
— А ты подросла, — говорит она.
— Нет. Я такая же, как пять лет назад.
— Ты стала выше.
Я отрицательно качаю головой:
— Может быть, это из-за туфель.
Она смотрит вниз, на мои туфли на платформе.
— В таких нельзя водить машину, — говорит она. — Это опасно.
Я пожимаю плечами.
— Мы нормально доехали.
— А теперь, я думаю, тебе лучше развернуться и уехать, — говорит она. — И оставить меня расхлебывать всю эту кашу, которую заварила твоя сестра.
Вот, значит, как она все это себе представляла.
В голове у меня крутятся слова, просятся на язык, но я не даю им выйти наружу. Вокруг глаз у мамы морщинки, а под подбородком обвисла кожа — она вымоталась и постарела.
— А где папа? — спрашиваю я, вместо того чтобы уйти.
— На работе. Кому-то ведь надо оплачивать счета за все это. — Но это последнее сказано с оттенком (едва заметным)… чего-то. Эти слова обычно говорит отец, когда его золотые руки мастера-универсала должны послужить оправданием для ухода из дома. Кому-то ведь надо оплачивать счета за все это… Раньше мама такого никогда не говорила.
Я киваю:
— Да.
— Холодно, — говорит она, — я пойду в дом.
Я беру свою сумку и иду за ней.
Сколько бы времени я ни отсутствовала, наш дом в Хоуве никогда не кажется мне меньше, чем был раньше. Индия много раз говорила мне, что теперь, когда она выросла, все в родительском доме кажется ей маленьким. Раньше раковина была у нее над головой, а теперь она где-то чуть ли не у колен. И она чуть не проваливается в унитаз, потому что он оказался слишком низким. Когда я уезжала из дома, кухонная раковина была на уровне бедер. Там же она и осталась. И стол такой же пустой, и гостиная все так же заставлена мебелью, и все ступеньки на лестнице все на том же расстоянии друг от друга… Похоже, все равно, сколько я отсутствовала и на какой высоте раковины в тех квартирах, где я жила, — дом на Мейпл-стрит не меняется.
Даже занавески все те же.
Я ставлю сумку на пол рядом с кухонной дверью — может быть, в расчете на скорое бегство, не знаю, — подхожу к так и не изменившей своего положения раковине и наливаю себе полный стакан воды. В один из тех зеленых пластмассовых стаканчиков, которые так нравились мне, когда я была еще пятилетней девочкой. Потягивая воду, я задумчиво смотрю через окно на задний двор. Сегодня в сереньком штате Иллинойс очень серенький день. Серая пожухлая трава вдоль серого внутреннего забора, отражающаяся в серых лужах, окрашенных в цвет серого неба.
Чикаго… обратно в Чикаго, где Джонз сейчас размещает экспонаты выставки ткацкого ремесла. У сынов и дочерей этого бурно растущего города серый — далеко не самый популярный цвет[11]. Красные, голубые, желтые, зеленые нити… и руки Джоны, копающиеся в этой тканой радуге.
Пробуждаясь к жизни, взревел обогреватель, и поток воздуха над головой заколебал розовые занавески, окаймляющие окно. Я моргаю и возвращаюсь в серый хоувский мирок, где полы застелены пятнистым линолеумом и где мама разговаривает по телефону с кем-то по имени Дженевьев Олсон. Она вешает трубку.