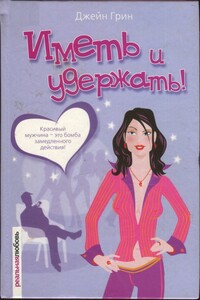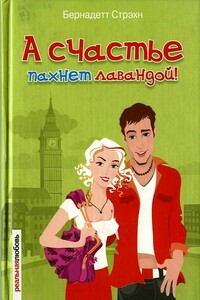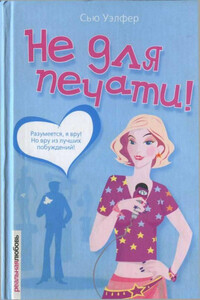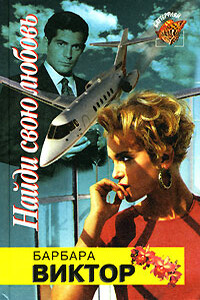Я просунула руку между планками и потянула за пожелтевшую высохшую ленту, отклеив ее от древесины. Встав, я прошла через всю комнату и, коснувшись руки матери, положила пачку ей на ладонь.
— Вот, это ты пропустила, — сказала я.
Так мы коснулись друг друга в первый раз за шесть лет.
— Ладно, шевелись, — говорит мама, слегка касаясь моей руки, чтобы подвинуть меня и пройти к раковине.
Так мы в первый раз касаемся друг друга.
— Почему ты не отнесла сумку к себе в комнату? — спрашивает она, моя руки.
Я колеблюсь.
— Может быть, я останусь здесь, внизу. Раз уж я буду здесь спать…
С тех пор как я положила пачку сигарет в мамину руку, я уже не видела, как выглядит моя комната. Года четыре назад, а может быть, пять, я приезжала в Хоув на Рождество — если это можно так назвать. Это было большой ошибкой, но в Чикаго стояла холодная, сухая зима, и из-за того, что день за днем мне приходилось жить при минусовой температуре, но без снега, я впала в слезливую сентиментальность. Проштудировав популярную книжку по психологической самопомощи «Как победить уныние», взятую в библиотеке, я решила посмотреть, смогу ли я «открыть себя» путем «погружения в вибрации своего детства».
И, решив ковать железо, пока горячо, я сорвалась и поехала.
Вернувшись в Чикаго, я «погрузила» эту книжку в «вибрации» огня, горевшего в бочке какого-то бродяги. За удовольствие «потерять» эту бесполезную бредятину в библиотеке с меня содрали шестьдесят долларов.
Я тихо улыбалась, подписывая чек на эти шестьдесят долларов и внося в строку памяти на чеке эту свою улыбку.
Никогда больше не буду ни во что «погружаться»!
— Мне удобнее будет спать внизу, — говорю я.
— Пожалуйста, если хочешь, — говорит мама, при этом из холодильника торчит только ее затянутый в розовое низ, а верх глубоко погружен в овощной контейнер. — Но тут тебе будет беспокойно, потому что на этой неделе много ответных игр.
Сказанное относится к Финальной четверке. Иначе говоря, к баскетболу.
— И сегодня тоже? — спрашиваю я.
— И сегодня, и завтра.
— Но я не собираюсь оставаться здесь завтра.
— Как устроишься, — говорит мама, не обращая на меня внимания, — возвращайся и порежь сельдерей, хорошо?
Все свое недовольство жизнью я вымещаю на пучке ни в чем не повинного сельдерея, всаживая нож глубоко в разделочную доску, положенную поверх кухонной раковины, и мысленно слыша вопли этого зеленого страдальца. За окном на заднем дворе черно от скворцов, дерущихся за место в луже, лед на которой солнце позднего дня превратило в воду. Люси, не подвластная времени кошка из соседнего дома, крадется под живой изгородью из барбариса. Почти прижавшись животом к земле, она быстро перебегает к пучку высокой травы — очередному укрытию на пути к добыче. Сидящий на нижней ветке скворец видит ее и поднимает крик. Остальные скворцы взлетают с земли — закрученной в штопор волной, — и Люси набрасывается на нервного кардинала, слишком глупого, чтобы понять намек, очевидный для скворцов.
Я слышу, как позади меня в кухню входит Джина.
— Ты замечала, что Люси никогда не удается поймать скворца? — спрашиваю я ее.
— Нет. Делать мне нечего.
— Вполне вероятно. — Я отрубаю еще несколько сельдерейных голов. Зовите меня просто Дама Червей. Или ее звали Дамой Пик? Ну, ту, что играла в крокет птицей вместо клюшки[12]…
— А где мама? — спрашивает Джина, сдергивая крышечку с банки колы. Чисто автоматически я бросаю взгляд на часы. Старые привычки изживать непросто. Сейчас одна минута шестого, но ко мне это не имеет никакого отношения.
— Я знаю, сколько сейчас времени, — говорит Джина, правильно поняв мой взгляд.
— Надо же, какие способности! — И я сбрасываю порезанный сельдерей с доски в глубокую сковородку, где шипят лук и сливочное масло. Оливковое масло в Хоуве не признают. По крайней мере, в этом доме.
— Я спросила, где мама, — повторяет она.
Снаружи хлопает дверца машины.
— Отлично, — говорит Джина. — Приехал отец.
Я ставлю доску в мойку и открываю кран, чтобы смыть вовремя не сбежавшие сельдереинки.
Отец хлопает кухонной дверью, и они с Джиной обнимаются. Затем он трясет пальцем перед ее носом и говорит: