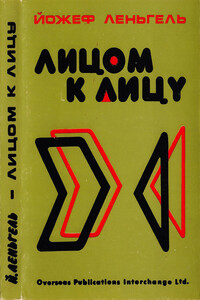. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В беллетризации жизни Сечени кроется немалая опасность, если слишком принять на веру его любовные излияния на страницах дневника. Уж вы поверьте мне, что тут не столько подлинных переживаний, сколько модных фантасмагорий. Согласен: отношения с невесткой затронули его довольно глубоко. Однако «великое», «идеальное», чувство к Кресченции, матери восьмерых детей, по мнению всех биографов Сечени, перешедшее в «счастливую» любовь и завершившееся рождением еще троих детей — теперь уже от Сечени, было обременительными узами, причем именно в счастливый период их отношений.
Самый волнующей связью могла бы оказаться та, о которой нам неизвестно доподлинно, перешла ли она в «связь». Я имею в виду треугольник: Мелани — Меттерних — Сечени… Посмотрим, позволит ли нам время вернуться к этой теме.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Выполняя последнюю волю Сечени, Ташнер — его доверенное лицо — вымарал в дневнике описание как раз наиболее щекотливых любовных ситуаций. Да оно и понятно: младшая сестра Сечени прятала под замок служанок посмазливее, когда братец Иштван посещал ее усадьбу.
И все же подлинный облик Сечени надо определять не по его любовным увлечениям. На этот путь не следовало бы становиться, даже вздумай кто-либо написать роман о его жизни. В данном же случае, когда нас в первую очередь интересует мост, такая попытка лишь увела бы в сторону.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сечени поистине страдал гипертрофией провидения. «Вена парализует мост», — пишет он в 1837 году, когда к строительству еще и не приступали. В 1848-м ему видится крушение моста, хотя тот еще не достроен. В начале революции Сечени уже усматривает ее падение. За сто лет до освобождения трудовых классов он предвидит гибель своего собственного класса. Цепь причин и следствий проецировалась в его мозгу в преувеличенном виде, — отсюда и его глубокий кризис в 1848-м: из предугадуемого поражения революции он делает вывод об окончательной гибели страны. А себя — за то, что провозглашал реформаторские идеи, — он обвиняет в этой гибели, воображает убийцей страны.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Плеханов после 1905 года рассуждал аналогичным образом: «Не нужно было браться за оружие». Страх подобного рода свойствен многим людям — самым разным.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Плохим он был человеком или хорошим, гуманным или жестоким? Не знаю. Во всяком случае, однажды, будучи в доме у Меттерниха, он заявил: «Кошута необходимо утилизировать, а если нельзя утилизировать, значит, надо повесить». Когда Кошут занемог, по Пешту разошелся слух, будто Сечени подослал убийц отравить его… Разве не характерно для человека, что к нему могла пристать подобная клевета?
А давайте прочтем, что Сечени говорит о самом себе Ташнеру, единственному до конца преданному ему человеку, исполнителю своей последней воли: «Вы и А. Кларк, вероятно, полагаете, будто я любил вас. Я вас использовал, но любить никогда не любил! А. Кларк думал, что я люблю его, так как я выказывал озабоченность, когда он прихварывал. Да, я был добр к нему, заботился о нем, чтобы он продержался хотя бы до тех пор, пока мост будет готов: я знал, что без него все дело застопорится. Наделенный способностями, большими, чем кто бы то ни было, я мог бы стать благодетелем Венгрии…» и тому подобное. Здесь же Сечени пишет и о вышеупомянутом талисмане, полученном от отца в 1817-м…
Конечно, эти признания были сделаны уже в бытность его в лечебнице для душевнобольных, где он мог без каких бы то ни было ограничений писать правду, прикрываясь оправданием: «С безумца какой спрос!» Тут он мог себе позволить любую мистификацию, дабы смягчить резкость вырывающихся у него откровенных признаний.