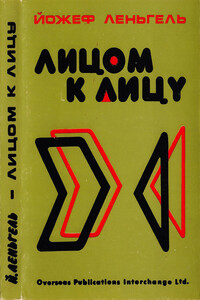. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Для начала я попробую развить мысль: что, собственно говоря, значит для людей мост. Ну, а после, пожалуй, поговорим и о созидателях моста…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хорошо, можно подойти к делу и с другой стороны!
Тут вы ошибаетесь. Сечени не был записным англоманом. Он хорошо знал Францию и французов и, конечно же, умом и сердцем понимал венгров. Посмотрим, с кем он встречается в Париже. У Аппони, парижского посла Австрийской империи, он знакомится с Поццо де Борго, которому итальянское имя не помешало стать послом русского царя. Сечени даже наносит визит этому дипломату — одному из серьезнейших противников Наполеона. В Опере он слушает «Ромео и Джульетту», в «Комеди Франсез» смотрит пьесы Скриба. Изысканную французскую кухню Сечени всегда любил; он с такою же охотой нанимает в Париже повара, как в Лондоне — конюха. Но он заходит и во французский парламент — в тот самый момент, когда держит речь Лафайет, этот, по словам Сечени, состарившийся лев. Во французской академии он вручает ежегодник Венгерской академии наук физику Гей-Люссаку — наверное, и вы помните по школьным урокам знаменитый закон Гей-Люссака — и даже произносит по-французски краткое сопроводительное слово. Его любезно принимает Тьер — политик, который лишь впоследствии повторит своего рода меттерниховскую карьеру — в миниатюре. Масштаб вполне оправдан: ведь Тьер и ростом-то карлик.
Сечени нравится во Франции даже то, что вряд ли понравилось бы нам с вами:
«Большой порядок, что впрочем, не так уж и плохо, как, вероятно, полагает Седлницки».
Упомянутое лицо — это венский министр полиции…
«Я испытываю здесь большую уверенность чем где бы то ни было. Чувствую зависть, жгучую зависть при виде такого величия».
Сечени раздражает, что за границей не могут выговорить его имя. Вот как его представляют в обществе: «C’est un charmant Hongrois, dont il est impossible de prononcer le nom…»[104]
«С таким злополучным именем, как у меня, не попутешествуешь. Вот уже целых шесть дней я бьюсь над тем, чтобы обучить возницу своего кабриолета. Я едва сдерживаю ярость: он не в силах уйти дальше Шени, Де Шени, Шерини».
Досада терзает Сечени в ту пору, когда он, несколькими днями позже, в Лондоне, ему его собственным словам:
«До смешного расчувствовался, чуть не заплакал. Меня представили королю…»
Но вот еще одна, запись под той же самой датой:
«Обед у Пала Эстерхази. Долго беседовали с ним и с Бауэром насчет шерсти».
Что ж, теккереевским «князьям Петроварадинским» было о чем потолковать с англичанами насчет овцеводства и шерсти. Англия в ту пору занималась разведением не только породистых лошадей, но и новых пород свиней, коров, приносящих высокие удои, и овец, дающих тончайшую шерсть. Наступила эпоха Дарвина: хозяева-фермеры учились сознательно регулировать процесс естественного отбора. Не стану повторяться, рассказывая о строительстве машин, мостов, железных дорог. Вполне понятно, что Сечени, видя выход в экономическом прогрессе и реформах, больше усваивает в Англии, чем в Париже. Но, французов он понимал и отдавал им должное.
Эта тема опять уводит вас назад, к 1832 году, когда Сечени заносит в дневник такие мысли:
«Если я говорю: наделите крестьян правом собственности, — меня нельзя упрекнуть, будто бы мне не известны последствия подобного предложения. Напротив…»
Тут, безусловно, сказался опыт, приобретенный во Франции.
Таков был Сечени; вернее, он выступал во множестве ипостасей.. Однако же позвольте вернуться к мосту как понятию. Да и рассуждения свои прервать самое время, иначе того гляди насильственно оттеснишь Сечени влево, как до сих пор многие старались оттеснять его вправо.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ну и ну, до чего проворны эти такси! Я еще и к рассказу приступить не успел, а мк уже приехали.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я так и думал, что вам здесь понравится. Очень милый ресторанчик и без малейшей претенциозности, не правда ли?