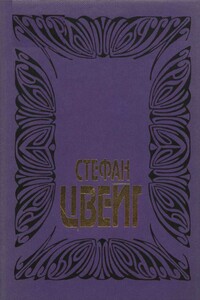— Так и знайте, не пробил еще мой час, дай-ка мне косу! — И, поплевав на ладони, он брал у кого-нибудь косу, но, сделав взмах-другой, останавливался и садился отдохнуть. Но все равно дедушка ни за что не признавался в бессилии, заявлял, что «коса тупая».
— Пошире, пошире закладывай копенку, да что же это, погодите-ка, я примну.
И я волей-неволей подсаживал его наверх, на копну, и он уминал — падая.
Зиму он все больше лежал, но лишь на лавке за печью — ни за что не соглашался лечь в постель.
— Тогда я уже не встану, а я хочу еще ро́бить, ну, что вы меня принуждаете? Или смерти моей желаете?
Летом он все же лежал в постели.
После Ивана Купалы мы начали косить в садах, и он непременно хоть завтрак нам носил и до вечера дома не показывался, то вместе с нами при сене был, то перебирал оставшиеся косы — не подойдет ли ему какая.
Но ни одна ему не подходила, он ворчал, ругая косы и тех, кто кует их такими тяжелыми.
— Моя-то коса была будто перышко, а острая — что тебе бритва; а эти — словно валун в руки берешь.
Когда мы перешли косить на луга, ему было далеко да и невмоготу добираться, но все равно он брел туда, с самого утра до полудня, если бабушка не закроет его на ключ, или, наоборот, не оставит дверь открытой, а ключ спрячет, чтобы он не мог дом закрыть. Он приходил, приносил табаку нанятым косцам, а нам, своим, — по сигаре. Самое трудное было возвращаться с ним вечером домой. Если мы хотели, чтоб он засветло попал домой, я бросал все и умолял-упрашивал его, пускаясь на всякие хитрости, и вел домой. Но не приведи господь поддержать его, помочь! Где там! Чтоб его да вели! Нешто он пьяный?! Это только пьяных водят под руки, а он, нет, он не позволит. И так вот, сто раз отдыхая, мы добирались до дома.
На дальние луга мы его ни за что не пускали. Правда, в округе все его знали, и он бы не потерялся, но мы не хотели, чтоб он умер, упал где-нибудь в лугах или на дороге.
С ним поневоле стала оставаться дома бабушка, которая тоже сильно сдала.
И вот дедушка, который сроду с ней не ссорился, теперь вдруг стал браниться почитай каждый день — то прогонял ее в поле, то звал, чтоб шла с ним, или пытался уйти на луг один, а однажды и в самом деле ушел и добрел-таки.
Мы глазам не поверили, когда он появился среди нас, а немного спустя прибежала и нанятая женщина, которую бабушка послала на поиски.
Бабушка ненадолго вышла в сад за домом, а дедушка в это время и исчез.
Однако это была последняя прогулка деда в милые его сердцу поля и луга. Там он вечером, выпив рюмку, запел с косцами:
Стар я, плох я,
бача грешник, —
не дождаться мне
Голос у него сорвался, на глазах выступили слезы. Он быстро вытер их и прервал певцов:
— Нет, не эту, ребята, давайте повеселее!
И начал сам:
Что мне мучиться из-за любви,
милой лучше я верну колечко…
Так оно и вышло, на другой день он и вернул его.
А тогда на лугу перекрестил, благословил всех нас, детей и чужих, — вдруг, мол, завтра бабушка его не пустит.
Ну да ладно — он все равно придет, сбежит из дома.
Не пришел, лишь посланец прибежал около полудня — «что-де прибрал их господь».
Накануне вечером мы его еле уложили в постель. Утром он порывался подняться с нами. Мы насильно, со скандалом, не позволили ему встать. Он обижался, — дескать, неужто он уже ни на что не годен, он ведь еще будет ро́бить, он еще в силах, или хоть воды нам принесет. Так-то, мол, мы, дети, платим ему за все; он еще и прикрикнул на нас, когда мы ненароком повернули его на левый бок, — мы-де для того и кладем его на сердце, чтобы он умер.
Господи, сколько слез было, уговоров, пока не убедили его, что, упаси бог, мы вовсе не хотим его смерти, а надо ему отдохнуть. Он согласился лишь тогда, когда мы пообещали назавтра утром взять его с собой в луга. Он притих, от радости прижимая нас к себе.
— Детки, мои детки! Да разве могу я… вы же еще не встали на ноги, не обеспечены, разве могу я умереть? Нет еще. Да еще вон Дюрко, Янко, Аничка, — и он перечислил всех младших, — сколько им всего надо, только я знаю.
Ночью он тяжело дышал, под утро забылся сном, если это можно назвать сном.