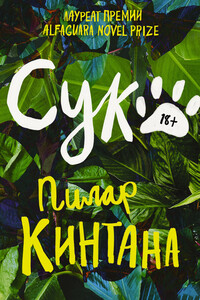Мы думаем, что знаем тех, кого любим, – разве мы не видим их насквозь? Разве не видим их легкие и другие органы, висящие, словно виноградные грозди под стеклом, их сердца, пульсирующие как положено, их мозг, где вспыхивают мысли, которые мы так легко предсказываем? Но я не умела предсказывать, что сделает мой муж. Каждый раз, когда я думала, что наконец вижу его до дна, – он ускользал.
Потому что, расстегивая мои пуговицы и открывая взорам подарок Базза – корсаж, сжатый пружинами, как мое сердце, – он сказал кое-что, отчего я остановилась.
Я запахнула блузку и отодвинулась.
– Что ты сказал?
Он приподнялся.
– Я сказал: «Никогда не меняйся».
Опять эта улыбка.
Никогда не меняйся. Мой мозг запылал. Потому что перемены были нам нужны как воздух, и больше ничего, кроме них. Не было другого варианта, и все-таки вот он, улыбается как мальчишка и велит мне никогда не меняться. Я наконец решила, что он покорился своей жизни и сообщает мне об этом по-своему, безмолвно. Что он мечтает о переменах, ибо кто же выдержит такую жизнь, как наша? Я была готова дать ему то, что он хочет, если он так решит. Если, подходя, как и все мы, к порогу тридцатилетия, он наконец поймет, чего желает его сердце.
– Я устала, – сказала я, выскальзывая из-под него.
– А, – сказал он удивленно. Не уверена, что раньше этому красавцу хоть раз запрещали себя целовать.
Он выжидающе посмотрел на меня, но я не могла ничего сказать. Открой я рот, в комнате не осталось бы ни атома кислорода. Пистолет подмигнул мне своим глазом. Нет. Он не собирается меняться.
Конечно, он не собирался. И почему я решила, что он мог бы? Это вообще невозможно, он же туман, туман не может меняться, потому что не имеет формы. Он так привык быть всем сразу, угождать всем. Да, да, конечно, я представляла себе, как он нашептывает что-то Баззу, любуясь нервным румянцем, заливающим его щеки, и не имея в виду ничего из того, что говорит. Нет-нет, что-либо изменить означает смертельную опасность, это означает потерять тех, кто его обожает, потерять жену или сына, потерять собственный рассудок – стоит кому-нибудь на дюйм сойти со своего места. Нет. Ничего не изменится: он будет купаться в восхищении своего старого любовника, юной девушки, растерянной жены и кто знает кого еще. Это будет длиться вечно, пока его не арестуют, не начнут шантажировать или еще хуже.
Затем он пришел. Отбой тревоги – певучая, полная надежды нота, сразу после которой мы услышали, как соседи кричат кличку нашей собаки.
– Они зовут Лайла? – спросила я, вставая.
– Кажется, да…
– Думаешь, он пролез под забором? Надо было заделать ту дыру.
Холланд очень встревожился.
– Он один не выживет, он даже лаять не умеет. Бедняга.
– Что, прости?
– Я говорю, он не выживет один. Он не из того теста.
Слова летели через комнату, как дротики.
– А я – из того?
– О чем ты?
– Подожди.
– Перли, что ты делаешь?
Я взяла нужную мне вещь с полки и держала в руке. И тут, под его нежным и потрясенным супружеским взглядом, решила сделать то, что необходимо.
Мгновения спустя я поднялась наверх, вышла через заднюю дверь в сад, увитый виноградом. Толпа неухоженных роз синела в сумерках рядом с лилейником, цветки которого как раз закрывались на ночь. Меж схлопывающихся лепестков одного из них копошилась запоздалая пчела. Может быть, она промедлит, окажется заперта в бездумном цветке и будет биться всю ночь напролет, пока не изнеможет до смерти в камере, полной пыльцы.
Холланд был уже на улице, звал пса по имени. Наклонившись, хлопал в ладоши: «Иди ко мне, мальчик! Лайл! Ко мне!» Он предложил пойти к океану, мол, туда может побежать немая собака, и мы спустились по Таравель-стрит туда, где над нами открылось сумеречное небо, затянутое облаками и розовое, как язык. Там я опустила конверт в небольшой железный почтовый ящик на углу. И затем, стоя лицом к океану, который не переплывали мои предки, безвинному океану, и спиной к стране, которая нас не любила, Холланд вздохнул и посмотрел на меня с доверчивым, как всегда, лицом.
Я не прикасалась к пистолету на полке. Конечно нет, я не убийца. Он лежал в подвале, тихо, как всегда, и спал заслуженным сном после очередной войны. И все же, хотя никто этого не слышал, из того почтового ящика на Таравель уже вылетела пуля в направлении своей жертвы.