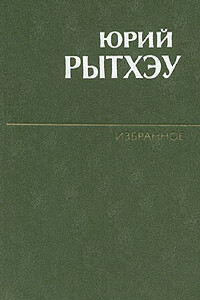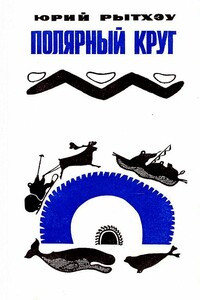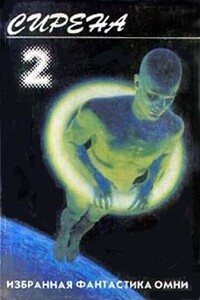И снова Петр-Амая заметил в этой улыбке что-то новое, неуловимое, отчего ему стало неприятно.
Перси несколько раз повернул бубен, щелкнул пальцем по его поверхности, и новый сягуяк[2] отозвался очень глухо, словно сердясь за насилие над собой.
— Ничего, к вечеру высохнешь и будешь греметь так, что слышно будет в Номе, — сказал Перси и ушел мыть руки.
Возвратился он уже как будто другим, и Петр-Амая не увидел ничего такого особенного в выражении его лица: просто человек работал. Петр-Амая хорошо знал, как трудно и мучительно натягивать новую кожу на ярар[3].
— Ну, как вам показалось новое селение? — спросил Перси.
— Такое впечатление, что Иналик целиком перенесли сюда, — ответил Петр-Амая.
— Таково было пожелание стариков, — небрежно усмехнулся Перси. — Но если уж начинать новую жизнь, надо было все делать не так. Зачем снова селиться на крутом берегу? На острове есть отличное место. Так нет, выбрали самое крутое и неудобное. Мне иногда кажется, что старые люди возвращаются в детство. Свидетельством этому их упрямство и непоследовательность в поступках. Как вы думаете?
— Мне трудно судить со стороны, — подумав, ответил Петр-Амая. — Правда, наш народ пережил нечто похожее, когда Наукан переселили в Нунямо. Я читал об этом в старой книге. Сначала люди даже радовались, держались друг за друга, пытались сохранить и образ жизни, и связи, и язык… Но это было трудно в чуждом языковом окружении. Ведь Нунямо-то было чукотским селением. Потом люди разбрелись по другим местам. Многие уехали в Уэлен. Здесь жили родственники — уэленские парни обычно брали жен в старом Наукане…
— Когда же это было? — спросил Перси.
— Около ста лет назад.
— Но ведь это уже при социализме! — удивился Перси.
— Ну и что? — пожал плечами Петр-Амая. — И при социализме люди ошибались.
— Да я не об этом, — Перси замялся. — Разве тогда брали жен в других селениях?
— А почему нет? — удивился в свою очередь Петр-Амая.
Распахнулась дверь, и показался Джеймс Мылрок:
— Молодые люди, к нам пришел гость.
Старый Кристофер Ноблес, щуря выцветшие, но еще определенно голубые глаза, уже пил кофе и громко рассуждал:
— Да мог ли я, молодой человек, не искушенный в международных делах, во многом наивный, можно сказать, до смерти перепуганный участием в непонятном секретном совещании, дожить до той поры, что показавшееся мне утопией вдруг стало реальностью? Это удивительно, друзья! Удивительно! И это полно глубокого смысла! Маленький эскимосский народ вносит свой весомый, можно сказать, видимый всему человечеству вклад в новый климат в отношениях между странами и народами планеты! Вот что впечатляет и удивляет!
Перси и Петр-Амая переглянулись между собой: им, воспитанным в сдержанности, трудно было воспринимать такое бурное проявление чувств.
— Молодые люди! — продолжал Кристофер Ноблес. — Я вам завидую, и в то же время, как бы глядя на себя со стороны, горжусь и самим собой: я был у истоков всего того, что сегодня дает плоды, — истоков мирной жизни Человечества!
Площадка, где должна была состояться песенно-танцевальная церемония по поводу основания нового эскимосского селения, находилась возле школы. Сама школа была прекрасна — небольшое на вид, но очень вместительное здание, полное света и воздуха, как бы плыло над морем, над простором. Со стороны берега оно было поставлено на высокие сваи.
На эту площадку собирались бывшие иналикцы, ставшие жителями Кинг-Айленда. Женщины нарядились в матерчатые балахоны, украшенные простым орнаментом по подолу, рукавам и капюшону. Но яркость расцветок была поразительной! Иногда казалось, не женщина идет, а живой букет цветов. Большинство мужчин было в коротких белых камлейках, надетых на тонкие куртки: на воле уже было прохладно. То и дело прорывались какие-то отрывки бравурных мелодий: это школьный духовой оркестр репетировал на широком крыльце.
Среди зрителей был заметен Адам Майна. Старик был в старом замшевом балахоне из тонко выделанной оленьей кожи, чудом сохранившемся от прошлого.
С материка летели легкие вертостаты и садились на посадочной площадке, увеличивая число гостей.