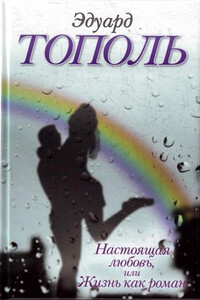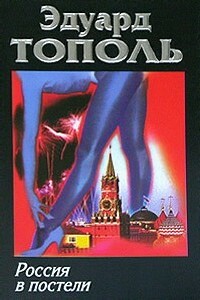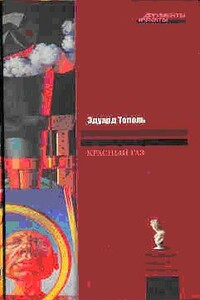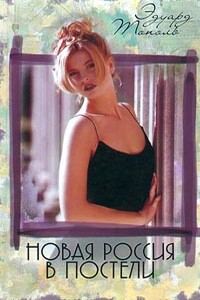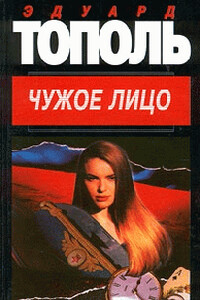– Где Полина?
Фенька промазученной рукавицей оторвал Митины руки от своей робы, поднял холодные глаза, сказал спокойно:
– А тебе зачем?
Бурильщики выжидательно повернулись к ним от ротора, готовые, конечно, в случае чего тут же прийти Феньке на помощь, но Гурьянов по-прежнему резко спросил:
– Знаешь иль нет?
– Нет. Да она и сама не знает, – горестно отвечает Фенька.
– Как это? Мне сказали, она улетела. Куда?
– Я ж говорю: она сама не знала.
– Она ж брала билет!
– Не-а. Она почтовым до Тюмени, а оттуда – куда поведет. Сказала, что рук тебе вязать не хочет. – И вдруг прибавил с жалостью и даже снисходительностью какой-то: – Дурак ты, Митя.
Он шел по окраине поселка. Ненецкие чумы стояли здесь вперемешку с русскими рублеными домами, и во дворах, вывешенные на шестах, дубились морозом вывороченные собачьи шкуры. Позже из них сделают унты, столь нужные человеку на Севере, но все же эти пестрые выворотки, бывшие еще вчера живыми Тузиками и Бобиками, это напоминание о людском и собственном предательстве, выставленное в ряд… с души воротило глядеть, паскудно было.
Опустив глаза, Гурьянов ускорил шаг.
В сберкассе молодая кассирша крест-накрест перечеркнула сберкнижку и с явной враждебностью выложила перед Гурьяновым самые старые деньги – несколько пачек засаленных и захватанных рублевых и трехрублевых купюр. Медленно отсчитала еще шестнадцать старых рублевок, подвела итог:
– Одна тысяча сто шестнадцать рублей двадцать три копейки. Пересчитайте.
– А крупней нету?
– Для вас – нету. Пересчитайте.
– Дура, – сказал он и сгреб деньги.
А потом в «балке» он складывал в чемодан свои вещи – свитер, пару рубах, белье. Деньги, перевязанные бинтом, сунул поглубже, на дно. На тумбочке стоял транзисторный приемник «Сокол», Гурьянов поколебался, но взял и его, положил в чемодан.
– Куда ты? – удивился оспатый.
Гурьянов промолчал.
– Ты куда собрался? – приставал оспатый.
Гурьянов взял чемодан и подался к выходу.
– А чё случилось? – спросил оспатый с недоумением. И даже слегка загородил дорогу. – Чё случилось, Гурьянов?
Гурьянов поднял на него глаза.
– Чихал я на вас. Понял?
Вертолет взревел, закрутил винтом.
Механик изнутри салона защелкнул дверцу и мимо Гурьянова, по мешкам с мороженой рыбой пробрался вперед, к пилотам. Рыбы в вертолете было много – целый салон. Нельма и муксун – в мешках, а полутораметровые осетры, звонкие, как бревна, свалены были прямо на пол. Заиндевевшие, они смотрели на мир тупыми слюдяными глазами.
Гурьянов сидел у иллюминатора на мешке с мороженой нельмой.
Вертолет оторвался от земли и, выполняя разворот, завис над стройучастком.
Там, на стройучастке, шла привычная работа, люди тянули через тайгу нитку нефтепровода. К стоявшему возле прорабской Фадеичу спешил с каким-то делом оспатый…
Гурьянов презрительно отвернулся от иллюминатора.
Закончив разворот, вертолет выровнялся, и земля утонула под ним, укрылась облачностью.
Солнечным мартовским утром Дмитрий Гурьянов прибыл в Москву. В аэрофлотском автобусе гремела джазовая музыка радиостанции «Юность» – о весне, о молодости, которой открыты все пути и дороги. Гурьянов оглядывался, озирался – вот она, Москва, вот она – жизнь, вся – впереди, как спелое яблоко, которое еще предстоит надкусить. А все, что прожито так или не так, – в прошлом! А теперь мы все начнем по новой! И место для этого вполне подходящее – столица! На улицах – потоки лаковых машин, сверкание витрин, торопливость студенток. Даже снегоочистители жуют снег под музыку «Песняров».
Под эту же музыку он ехал в такси, засматриваясь на столичные проспекты, толчею машин на перекрестках, на знакомые по открыткам площади. Вместе с Гурьяновым немигающими слюдяными глазами глядел на мир из окна кабины полутораметровый мороженый осетр. Митя придерживал его рукой.
У какого-то светофора тормознули в ряд четыре машины, и водитель соседнего такси весело сказал Гурьянову про осетра:
– Обский?
– Ага.
– Земляк мой, сразу видно. Куда везешь?
– Невесте, – сообщил Гурьянов.
– Да, это я понимаю, закус! А может, продашь?
Митя улыбнулся, отрицательно покачал головой. Разъехались.