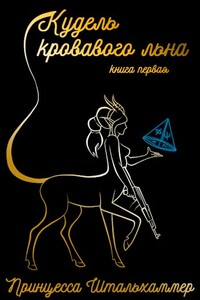Аскольд собрал добычу в ивовое тенёто и поднял голову:
— Владко? Печево-то откуда? Сёстры в дорогу собрали?
— Ага, сестра. Твоя, — Булгарин подошёл зачерпнуть воды: любимый котелок он не забыл.
Аскольд зачем-то отвернулся.
— Чего? — обиделся Владко.
— Ничего. Ешь.
Владко принюхался.
— Нет уж, скажи.
— Что говорить? Откуси — сам поймёшь.
Откусил. Проглотил.
— Обычная лепёшка.
Аскольд нахмурился.
— Дай-ка попробовать… Она что, готовить научилась?
— А что — не умела?
— Не очень. У нас родители умерли, ей одиннадцать лет было. Хотели к тётке на воспитание. К отцовой сестре. Хильдико руками и ногами за косяк: «Не отдавай! Не поеду, не хочу!». А когда она плачет, мне самому плохо — так уж она ворожит. Тётка вокруг нас походила, носы нам поутирала — так и уехала. Мы остались: я с дружиной, и сестра всё время рядом вертится. У Эрика дочери — научили её чему-то. Прясть-вышивать умеет, но не особенно любит. А тут, видно, сёстры ваши постарались, хоть хозяйку из неё сделают.
— Кто ж её теперь замуж возьмёт? — притворно вздохнул Братислав и подмигнул брату.
— Кто там хворост собирал? — крикнул Варди. Брызги на соломенных косах были как роса на стоге. — Пожарить хватит? Или сырую есть?
На берегу разводили руками: или готовить, или ночью греться. Валежника, как назло мало, ветки рубить не велят — ни кусты, ни деревья. Всё шумят: «Уйди! Уйди!». Врагов чуют. Комары вообще изверги. Даже в такую жару.
— Не замёрзнем, — буркнул Братин. — А поесть горячего охота.
— Пока готовим, обсохнем, — подхватил Светан. — Клюкву варить хочешь?
— Ага. Сюда бы нашу Рогнеду, она бы наварила… И чабрецом бы напоила, и клюквой…
Владко вертел стебель багна. Листья как кованые. Спать тут нельзя — одурманит. Зато гнус отгоняет. Дальше уйдёшь — съедят.
— Смеётесь надо мной. А помнишь, Светан, как в баню за девками подглядывал?
— Да когда это было?
— Когда? Когда женат ещё не был, — расселись, где берег посуше и вместо болотного цвета — девясил и конюшина. Владко и Святча складывали костёр. — Мы тогда с Гордеем и Вадимом дружили. Они постарше нас, мы хвостом за ними ходили, хотели во всём как они быть. Подбили нас как-то потешиться. Сначала сами посмотрели, потом нас по очереди подсаживали. Светан, значит, перекинулся, чтоб не узнали. Голову в оконце просунул. Оно заволошное, узкое, а холка у братца — ого какая. Да ещё просунуться подальше надо, во все углы заглянуть. Он и застрял. Туда-сюда. Никак. Девки видят: морда мохнатая сверху торчит и жалостливо так смотрит. Ух, порадовались. Целый день листочками плевался. Все веники об него ободрали. Покусал кого-то.
— Тебе смешно, — Владко аж согнулся — получил под рёбра.
— Смешнее Вадиму с Гордеем было, когда ты у них на плечах потоптался. Когтищи — хоть зашивай. Он с ними с тех пор не дружит.
— Ха-ха. У меня чуть глаза не повылазили, а он укатывается, — Светан опрокинул брата и повозил по траве. Тот едва не угодил пяткой в огонь: пока рассказывал, хорошее пламя раздули.
— Эй! Огонь всё-таки! — напомнил им Святча. — Его уважать надо.
Не донесли они свою обиду, по дороге рассорили. Ехали мстить, за ворота вышли в слезах, а теперь как на праздник. Поход бойнику что игрище, погоня что салки. Зверь живёт, пока охотится, пока бежит — за кем иль от кого, пока пена с боков клочьями да кровь бьёт в голову. Посади лютого на цепь, держи во дворе, корми с блюдца, блох вычёсывай — сдохнет с тоски. Поставь молоко надолго — скиснет. Спрячь наряд в сундук подальше — истлеет. Вот и кровь — застоится, загуснет от тины как топь весенняя. От дров одна польза — когда сгорят. От мяса — когда съедено. Чем дожить до старости, ни песни, ни пляски не выучив — выходи на веселье, пусть запомнят в красоте да в силе. Кто живой останется.
XI
Тихо на подворье, не звякнет сбруя, не скребут порога когти, не катится бочка из погреба, не стукнет о стол ендова.[68] Вся усадьба — в людской и в девичьей. Холопы да батраки — на войну не возьмёшь, дом не поручишь. Косят сено, колют дрова, белят посконину[69]. Доверь дреговичу топор, пусти девку стирать на реку — и не твои это люди, поминай как звали. Наймиты за ними посматривали, роднились — и вели в город, на вече, к соседям-пахарям. Вече давало приют, община давала кров. Пленные принадлежали Искоростеню — и только Искоростень решал, кого освободить. Но помнил полюдье