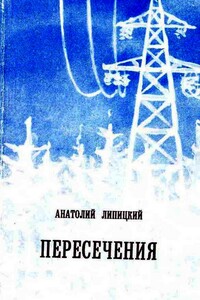— На что он решился с Шуркой-то?
— Решился не отступать, тетка Алена.
— У! Он отчаянный, — мгновенно согласилась она. — Он на все пойдет… — Спохватившись, Алена уже на улице догнала Павла и, расплескивая молоко, сунула ему в руки крынку.
Мать встретила Павла ворчливо.
— Куда ты запропастился? Картошка стынет… От кого молоко? От Алены? Спасибо-то сказал, чай?
— Сказал, — буркнул Павел.
За столом вокруг огромного пузатого чугуна, в пару от горячей картошки, орудовали Катькины ребятишки. При виде сердитого дяди они смолкли и чуть пригнулись, настороженные.
Сережка, бесстрашно взглянув на Павла, заулыбался во весь рот, и едва успел дядя сесть на лавку, мальчишка уже карабкался к нему на колени. Несмотря на внушенную самому себе неприязнь к этому мальчику, как две капли воды похожему на Коптильникова, Павел не в силах был оттолкнуть доверчивого и забавного малыша с пухлыми щечками и смышлеными синими, как у отца, глазами. Катька и одевала его лучше и чище остальных…
Сережа достал из чугуна самую большую картофелину и принялся настойчиво тыкать ею в губы Павлу, заставляя его съесть.
— Да постой ты! — вскричал Павел, не выдержав. — Вот привязался. В горло не лезет твоя картошка!
Наскоро выпив кружку молока, Павел отправился на ферму; шел кружным путем, чтобы подольше побыть одному; шагая, он придумывал все новые и веские доводы, обличающие противников. Постепенно в мыслях его составилась обвинительная речь; он успокоился: противники должны быть уничтожены.
На дворе Павел ощутил себя чужим; показалось, что женщины-доярки прошли мимо так, словно считали его посторонним здесь: ни одна не задержалась и не заговорила, как раньше… А может быть, им было не до него… Даже коровы встречали как будто недоверчиво, грустными, укоряющими глазами…
Павел сел на шаткую табуретку возле стойла. Солнце рвалось в многочисленные щели и щелочки, огненные стрелы кромсали полумрак, вонзались в стены и перегородки, дробились пламенными брызгами. Думалось, острые могучие мечи искрошат, размечут в щепки ветхое сооружение и на месте его возникнет что-то большое, прочное и светлое.
Шура Осокина в синем халатике поверх ватника пробежала в дальний угол, подталкивая впереди себя старика ветеринара: там у коровы начался отел. Она вернулась к Павлу усталая, тронула его за плечо:
— Дай-ка посижу.
Прислонилась затылком к загородке и утомленно прикрыла глаза. Солнечный луч упал на ее ухо, висок и краешек глаза, и Павел видел, как дрожало ее веко, а у переносья явственно обозначались мелкие и грустные морщинки. Эти морщинки и жалобно дрожащие ресницы вызвали в нем могучий прилив чувств, он готов был заплакать от нежности к ней, от преданности. Наклонившись, он хотел убрать с виска русую прядку, но не решился, а только осторожно завязал на рукаве ее халатика распустившуюся тесемку.
Шура открыла глаза.
— Ну, что ты на меня уставился, как на икону? Чудак, право. Уставится и молчит.
— Ты правда списалась с Коляем? — спросил Павел и испугался: а вдруг она подтвердит?
— Да, списалась. — Шура резко встала. — Скоро он приедет за мной. Ну? Уеду я с ним. Что ты еще хочешь?
— Чтобы ты не уезжала, — едва выдохнул он.
— От одних твоих взглядов впору скрыться. Ведь проходу нет от них. Дома и то мне чудятся твои глаза. Измучили вконец. И деваться некуда…
— Глаза как глаза, — обронил Павел. — С какими мать родила, на другие менять не могу, и рад бы… А ты возьми и выколи их, если мешают!
— Не глаза это, туча. Страшно жить, когда над тобой все время туча висит. Хоть бы раз мелькнул веселый лучик…
— Веселый? Чего захотела! Погоди, мелькнет, да только не веселый, а, может, кровавый…
Шура вздохнула с отчаянием.
— Как с тобой тяжело!
— А мне, думаешь, легко? Скоро собрание начнется… Будут душу за космы таскать — весело это?
— Не плачь заранее, — нетерпеливо перебила Шура. — Может, и не начнут. Испугался! Эко, беда! Ну, запишут выговор…
Павел мрачно усмехнулся.
— Утешила! Ты так это сказала, будто меня медалью наградят: вешай на грудь, носи и гордись.
— Какая уж тут медаль, — согласилась Шура. — Ты не один такой: таскали и будут таскать…





![Когда-то я скотину пас [сборник]](/uploads/books/images/c4/c4802de943fb89a35fb009b37289c29088cb308b.jpg)