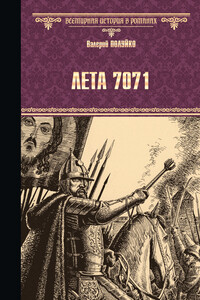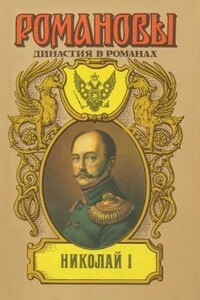И всё-таки, провожая Пимена из Старицы, Евфросиния чувствовала, что не сделала ещё чего-то — быть может, самого главного, чем могла привлечь его на свою сторону или укрепить в нём прежнее, если он уже был на её стороне. Сказала об этом своей неизменной советчице и наперснице — Марфе Жулебиной, и та прямо заявила ей:
— Ты, матушка, в Пимена дух свой вселяла, чая, что ему недостаёт собственного, о попранной правде, о беззакониях Елениных плакалась, чая пробудить в нём праведное негодование... А ему нет до прошлого никоторого дела, и он не жаждет и не ищет положить душу за правду. У него своё на уме. Что — покуда неведомо, но, что бы ни было, выгод себе приискать он не преминет. Потому тебе следовало открыто сказать ему, что Старица и дом Святой Софии[65] более обрящут выгод, ежели будут заедино, а не порознь.
Евфросиния и сама подумывала об этом. Был у неё соблазн взять быка за рога — и соблазн немалый, к тому же и случай казался весьма подходящим: чуяла она, что Пимен, несмотря на царские ласки и любовь, которой он много лет добивался и которая наконец-то как будто сошла на него, всё же не принимает почему-то всецело сторону царя, колеблется, присматривается и к другой стороне, словно выбирает... И — с Богом бы, не упустить случая! Однако было тут одно преткновение. Евфросиния понимала, что если Пимен и вправду выбирает, то выбирает не сердцем, а умом, и, стало быть, его личное отношение к каждой из сторон не предрешает выбора — он выберет ту, которая сильней. Но какая сила была на ту пору у Старицы? Что, кроме ненависти и зла, припасла, приготовила она для борьбы с Иваном — борьбы действенной, не мысленной? Чем, кроме тайных козней и сговоров, намеревалась сражаться с ним? Какое оружие, кроме того, что годится лишь в открытом бою, могла применить против него и чем, кроме подкупов и посулов, рассчитывала привлечь на свою сторону тех, которые уже непосредственно возьмутся за оружие?
В то время у Евфросинии не было ответа на эти вопросы. Ей нечего было положить на мерила, которыми Пимен мерил силу сторон, чтобы склонить чашу на свою сторону. И помимо всего — она не решалась полностью довериться лишь своему чутью. Чутьё чутьём, но чужая душа — потёмки, и зачинать такое дело с Пименом, не зная точно, что у него на уме, было всё-таки опасно. Могло ведь статься, что не союз со Старицей, а предательство окажется для него самым выгодным.
Зато теперь Евфросиния точно знала, что Пимен, Бог весть как и каким чутьём почуявший приближение новой великой усобицы царя с боярами, к которой Старица, несомненно, не могла остаться безучастной, действительно примерялся, приглядывался, выбирал, на чью сторону стать. Может, как раз царские ласки — столь неожиданные и подозрительные — и натолкнули проницательного новгородца на мысль о надвигающейся смуте? Может, настроение самих бояр, которое конечно же не ускользнуло от его пристального внимания, когда он обретался в Москве? Может, то и другое разом, а может, что-то совсем иное, ведомое ему одному, привело его к догадке, но как бы там ни было, он безошибочно угадал приближение смутных дней и в Старицу направил свои стопы именно затем, чтобы узнать, выведать, высмотреть, что затаила, что припасла, приготовила Старица к этим долгожданным ею дням? Чем собирается сразиться с Иваном — и собирается ли? Но прежде всего — чем надеется и рассчитывает привлечь к себе души и умы, чем вдохновить их, чем и во имя чего поднять на борьбу?
Что ж, теперь Евфросиния сполна могла ответить на это — и ответила. Грамота, посланная в Новгородскую землю, была её весомым, решительным, воинственным ответом. Теперь она сама ставила Пимена перед выбором, и это, конечно, вряд ли могло понравиться ему, но Евфросиния не хотела больше ни выжидать, ни осторожничать, она брала быка за рога — теперь уже брала! — и намерение Дмитрия Куракина повременить с привлечением Пимена крепко раздосадовало её. Доведись ей самой говорить с князем, она сумела бы переубедить его (Пимен им был нужней всех!), но заочно, через посланцев, сделать это было трудно, поэтому Евфросиния решила не тратить попусту время на переговоры и пересылки с Куракиным, а снарядить посланца прямо к самому Пимену. Это было очень опасно: Новгород кишел царскими соглядатаями, водились они, разумеется, и в доме Святой Софии, быть может, глядели Пимену в самый рот, но Евфросинию теперь это не останавливало: Пимен стоил риска!