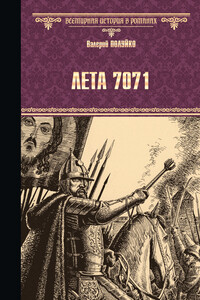А сколько было других случаев, пусть и не столь разительных, но тоже оставивших в душе свой след, — им Горенский и счёт потерял. Теперь, когда между царём и его родом пробежала чёрная кошка, память почему-то возрождала именно это — обидное, горькое, злое, словно что-то в нём, неподвластное его воле, его рассудку, стремилось восстать на Ивана, отвратить от него... Но, быть может (и скорее всего!), тут действовали иные силы — защитные. Пробуждая в нём эти недобрые воспоминания, они тем самым укрепляли его, помогали выработать способность — переносить ещё худшее, точно так же, как малыми дозами яда вырабатывают способность переносить большие. А худшего не нужно было долго ждать. Оно уже пришло, явилось — вдогон за чёрной кошкой, след которой неизбежно должен был пролечь и через их личные отношения, хотя видимых причин для этого и не было: сам он ничем не прогневал Ивана и не дал ему ни малейшего повода заподозрить его в родовом единодушии, но — он тоже был Оболенский, а Иван был не тем человеком, который мог легко переступить через это. Конечно, он не крикнет ему в злобе: «Пошёл вон!» — как мог бы крикнуть любому из Оболенских, и то доверие, которое он до сих пор испытывал к нему, тоже не сразу, не в одночасье сменится недоверием и неприязнью; может статься, что этого и вовсе не случится, но какая-то межа, грань всё равно будет существовать, мучительно, непреодолимо разделяя их отношения на старые и новые.
Сознавать всё это Горенскому было нелегко, ещё труднее было ощущать своё полнейшее бессилие изменить ситуацию. Его мучил угнетающий дух неблагополучия, сопротивляться которому не могли никакие защитные силы его души; и только понимание того, что всё это тоже не в воле Ивана, облегчало его состояние. Он понимал, что Иван оказался в не менее, а может, и в более трудном положении, чем он сам. Да, перед ним самим встал труднейший вопрос — с кем он? С родом или царём? И если раньше он был и с родом и с царём, то теперь такое стало невозможным. Теперь он должен был сделать выбор и ответить себе — с кем он? — а дальше всё становилось ясным и простым. Для Ивана же такая простота и ясность могли не наступить никогда. Сомнения могли терзать его душу каждодневно, и на его вопрос: «Кто Горенский, враг или друг?»— никто не мог ответить.
Собираясь к Ивану, Горенский много раздумывал над этим и всякий раз ловил себя на мысли, что сочувствует ему. Более того: он готов был даже заранее оправдать его, не зная ещё, что тот предпримет и как поведёт себя с ним и с его родичами. Эта мысль, при всей её чудовищности, крайности, не ужасала его, не приводила в смятение, ибо он понял весь ход событий и душевное состояние Ивана. Но, сочувствуя ему и даже заранее оправдывая, Горенский тем не менее не обнаруживал в себе желания стать на его сторону, что само по себе, пожалуй, не очень и смущало бы его, если бы он не чувствовал при этом, как неодолимо его тянет к Ивану и как тягостна, даже страшна ему мысль не о разрыве с ним, Боже упаси, а лишь о том, что их отношения могут измениться.
Такая противоречивость чувств, обнаруженная им в себе, стала мучить его ещё сильней, чем всё остальное, и не потому только, что он не мог ответить себе — почему это происходит, отчего в нём самом, в его душе словно бы тоже пролегла межа, — мучительнее всего было то, что с этой раздвоенностью, с этой необъяснимой противоречивостью нужно было идти к Ивану и скрывать её от него. А скрывать что-то от него, быть неискренним с ним он не хотел. К тому же неискренность была просто не под силу ему, он боялся её, зная, как чуток Иван на малейшую кривину души. Но и открыться ему в своих метаниях тоже не мог. Он смутно чувствовал, что межа, пролёгшая через его душу, не только растолкала по сторонам все его «за» и «против», но и надломила, поколебала в нём его духовную целостность, то есть как раз то, что предопределяло любой его поступок, любой выбор; и значит, тот выбор, который ему теперь предстояло сделать, вряд ли уже будет твёрдым и окончательным, и значит, будут метания, а метания — это измены, предательства... Сознаться же в том, что он способен дойти до предательства, Горенский мог разве что перед самим собой, но перед Иваном — никогда!