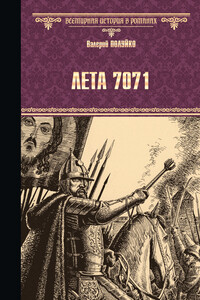— Господи, да так повсюду, во всех пределах, — равнодушно, лишь чуть досадливо отмахнулся от всего этого Пётр.
— И что с того, что повсюду? А у нас не должно так быть! Коль мы зовём себя православными — уразумей; православными, правыми надо всеми! — то у нас не должно быть так, как в других пределах! А иначе в чём же наше отличие, в чём наша правота? Да и в самом деле, в чём она? Отгородились от всего мира, зовём всех схизматиками, а чем же мы лучше их, чем отличны от них? Тем, что у нас хлеб для причастия кислый, а у них пресный? Токмо и того?! А правда, сам дух правды, — где же он на святой, правой Руси?! Святослав язычник был[230], а с врагами честен, без ков, повсегда упреждал их: «Хочу на вы ити». Мы же — христиане, православные, а так и норовим коварством и лжею промыслити. Свели немцев из Дерпта в города наши московские, изменивши прямому слову, что дали им воеводы: не выводить их из города. Они на том слове нашем и город отворили, а мы в неправде своей извечной с того слова преступно сошли. Так в чём же мы лучше их, в чём отличны?
— Вот уж, право, не думал и не гадал, что святая, правая Русь обрящет в твоём, братец, лице нового ересиарха. Во всём уж усомнялись... В правости веры нашей ты усомняешься первый.
Юрий вместо ответа на это язвительное замечание Петра облокотился на столешницу, стал смотреть ему прямо в глаза, и Пётр, незадолго до того сам пытавшийся поймать его взгляд, вдруг не выдержал такой прямоты и потупился.
— Почто ты мне не сказал, собирая меня на службу, что не служить я буду, а вилять душой? Ты был мне в отца место, набольник мой, опекун... Почто ты мне не сказал? Теперь — я на службе! Помыслы мои должны быть высоки: я должен думать о благе отечества, о благе государя... И дух мой должен быть высок! Я должен являть храбрость в бою с недругами... Храбрость! Доблесть! — Юрий протяжно вздохнул, откинулся от стола, снова уставился на свечи, но теперь уже они не занимали его, взгляд его был отсутствующим, как бы обращённым в себя. — А я думаю токмо об одном, — сказал он сдавленно, будто через силу, — что я — раб; что, явив храбрость перед врагом, у себя в дому я должен вилять душой, как самый ничтожный трус. Горько, обидно, странно... Ещё более странно то, что чем усердней примусь я вилять, чем ничтожней я буду, тем более мне будет почёта, а заодно — и доверия, что, право, уж смеху подобно! Ве́ди ясно: ежели я могу изменять себе, то ему — и подавно. Ясно! И он не может не разуметь сего! Но дело всё в том, что иные ему не нужны... Те, что будут истинно преданны, духом и разумом, — те ему не нужны. Ему потребны лише рабы, бездумные, жалкие рабы. Ежели бы ты сказал мне про сие, я бы лучше ушёл в монастырь.
— В монастырь?! — снисходительно хмыкнул Пётр. — Туда николи же не поздно. Токмо и там придётся вилять... Душа человеку на то и дана, как собаке хвост. А ты, что тот Китоврас, — не больно вёрток, вот и ломит тебя, вот и маешься...
Пётр говорил спокойно, степенно, только чуть вяловато, как бы с неохотой. Послушав Юрия, он решил про себя, что тот пришёл просто излить душу, как это бывало и раньше, а иного ничего не случилось, и это успокоило его, поэтому и голос его звучал степенно, ровно... Он не убеждал, не наставлял, он просто говорил — то, что, как ему казалось, всем давно и хорошо известно, в том числе и самому Юрию.
— ...Да все мы маемся. Думаешь, он не мается? Думаешь, ему не доводилось обращать свою душу на разные стороны? Вспомни-ка его малолетство! Да и сейчас не легче... Поставь себя на его место.
— «Поставь себя на его место! Вспомни его малолетство!» — Юрий вспыхнул. — То всё юродство, Пётр! Блаженны нищие духом! Буле, в детстве он и познал зло, но тогда же, в своё малолетство, коли принялся он, потехи ради, проливать кровь бессловесных, бросая их с теремов, — тогда и вросло в его душу присное зло, и не стало оттоль для него разнства меж бессловесными и словесными.
— Мы сами его таковым взрастили. Потакали ему во всём...
— Ты тщишься быть справедливым к нему...
Юрий опять прошёлся по горнице — явно для того, чтоб успокоиться, собраться с мыслями.