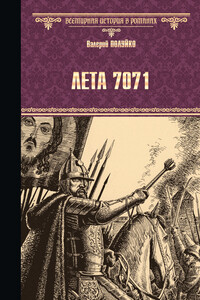А тайна их и вправду уже давно ни для кого не была тайной. Её, впрочем, и вообще-то не существовало, тайны этой, потому что ни сам Иван, ни те, кто знал, как он обошёлся с Курлятевым, вовсе не собирались ничего утаивать. Дело было самое обычное, и Курлятев был далеко не первым, кого постигла такая участь. Недавно туда же, на север, на Белоозеро, свезли князя Михайлу Воротынского, а ещё раньше — стрелецкого голову Тимофея Тетерина-Пухова. В чём провинился отчайдушный стрелецкий голова — доподлинно никто не знал, суда над ним не было, объявили только, что был он с теми, которые царю недоброхотствовали, но и без суда было ясно, что Тимоха Тетерин, храбро воевавший со своими стрельцами в Астраханском походе, а потом в Ливонском, когда штурмовали Дерпт, поплатился за свою больно уж тесную дружбу с братьями Адашевыми. Под их началом воевал удалой голова и был их подручником верным в ратных делах, но ещё более — не в ратных, потому что был их согласником и заединщиком. Это он доказал не только тем, что не отрёкся от братьев, когда над ними разразилась гроза, но и тем, что одним из немногих дерзнул защищать и оправдывать их. Когда Иван сослал в Дерпт старшего из братьев — Алексея, а потом устроил над ним и над удалившимся в монастырь Сильвестром заочный суд, именно он, Тимоха Тетерин, во всеуслышание назвал этот суд неправым. Этого-то как раз и не простил ему Иван. Тимоху насильно постригли в монахи, и царский ловчий Григорий Ловчиков отвёз его в Сийский монастырь под Холмогоры.
Царский гнев обрушился тогда и на Курлятева, который тоже встал на защиту Сильвестра и Адашева, правда, по иным причинам, нежели Тетерин. Защищая Сильвестра и Адашева, Курлятев тем самым защищал и себя, ибо он тоже, как и они, входил в тот самый узкий круг недавних царских советников и распорядителей, который называли Ближней или Избранной радон, и, естественно, всё, в чём Иван обвинял эту раду и из-за чего разошёлся с ней, в равной мере относилось и к нему. Он тоже жил под страхом расправы, и его участь могла оказаться такой же, как и участь Адашева и Сильвестра, хотя на первых порах Иван и не тронул его почему-то. Не тронул он, впрочем, и Курбского, и Горбатого... Может, решил, что Сильвестр и Адашев сполна рассчитались за всё и за всех? А может, лишь потому, что до них ещё не дошла очередь? В таких случаях начинают, как правило, с тех, с кем легче всего расправиться. Гадать было трудно, а ждать — опасно. Курлятев вошёл в тайный сговор с Вишневецким, готовя себе спасительный отнорок на случай беды, и дерзнул постоять за себя.
Это и вправду было дерзко — не признавать вины и сметь защищаться, вместо того чтобы покаяться, как должно, и смиренно испросить милости; но, вероятно, Курлятев верил, как верили Сильвестр и Адашев, просившие очного суда, что Ивану можно что-то доказать и можно в чём-то разубедить его и поколебать — своими доводами; а может, это был и своеобразный вызов: то, что Ивана удержало от немедленной расправы с ним, могло заставить и отступить. В самом деле, кем были Сильвестр и Адашев — без того, что получили из царских рук? Никем! Голь перекатная. Гноище. Прах. А он был князь, боярин, и не какой-нибудь там малозаметный середнячок, просиживающий лишь порты в боярской думе, — он был одним из тех, кто заправлял всеми делами на Москве, а в последнее время, когда Избранная рада была в зените своего могущества, ему и вовсе не было равных. Его имя произносили с не меньшим, а порой и с большим почтением, нежели имя самого царя. Он был силён, очень силён: за его спиной стояла не только несметная рать приспешников, служивших ему как бы вспомогательной силой, подобно пехоте в войске, — за его спиной, и это было весомей всего, стояла главная сила — боярская дума, куда он насажал своих единородцев Оболенских и таким образом прибрал её к рукам.
Оболенские и без того были одним из знатнейших и влиятельнейших родов, а теперь, захватив главенство в думе, они усилились ещё больше, и не считаться с этим Иван, конечно, не мог. Скорее всего, он потому и не тронул поначалу Курлятева, что не решился или счёл преждевременным идти на столкновение с думой, и главным образом с Оболенскими, в руках которых тогда, да и сейчас, находились многие важнейшие государственные дела, в первую очередь — военные, где им особенно трудно было найти замену. Они считались хорошими воеводами (это было у них родовое: многие Оболенские снискали себе славу на ратном поприще), а хорошие воеводы на дороге, как говорится, не валяются, Иван это знал, знал он и цену им, и они нужны были ему, очень нужны: борьба за Ливонию становилась всё тяжелей, перерастая в войну с Литвой и Польшей, и больше всего ему требовались именно хорошие воеводы, поэтому, вероятно, он и не стал задираться с Оболенскими, не стал вздымать вражду и настраивать их против себя — здравый смысл и забота о пользе дела сдерживали его; но когда Курлятев насмелился протестовать, когда начал искать правоту над ним, оспаривая и отвергая все его обвинения, выдвинутые против Избранной рады, тут уж осмотрительность и здравый смысл отступили и верх взяла натура Ивана. Курлятева услали в Смоленск — годовать, прописав ему быть вторым воеводой, и всем стало ясно, что это — опала и ссылка и что могуществу его пришёл конец. Он и сам понимал это, поэтому решил не играть с огнём. Прибыв в Смоленск, откуда до рубежа было подать рукой, он попытался осуществить то, о чём и сговаривался с Вишневецким, тем более что сговор этот в любое время мог быть открыт Воротынским, который конечно же не просто пугал их с Бельским, когда пригрозил донести царю. Курлятев помнил, как велико было негодование воеводы, возмущённого их намерением втянуть в это изменное дело и его, поэтому не стал особенно медлить.