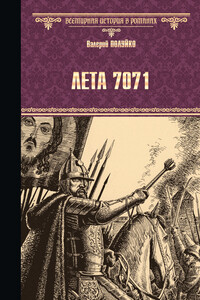Кажется, за такое кощунство его сей же миг поразит гром небесный, и ему мучительно хочется во искупление своей вины хотя бы осенить себя крестом, но — не стать же ни с того ни с сего креститься на глазах у этой блудницы.
— Испужалась? — спрашивает он, чтоб отвлечься от дурной мысли.
— Порато[212]... — с трудом выдыхает девка.
— Простого попа испужалась. А Господа не страшишься.
— Ох, святой отец... — Девка сжалась, будто её очень больно ударили, но в глазах — лишь мольба о пощаде и ни толики раскаянья, за которое он искренне мог бы пожалеть её и искренне благословить.
— Ступай... с Богом! — Епифаний вяло перекрестил её, девка схватила его руку, ткнулась в неё губами и юркнула за спину, пропав в темноте.
Епифаний перевёл свечу к противоположной стене — там притаилась другая тень. Всмотрелся — и не поверил глазам своим.
— Сё я, я, святой отец... Фёдор... Басманов.
В нём не было даже смущённости.
— А ты, зрю аз, не боишься ни меня, ни Бога.
— Бога боюсь, святой отец.
Епифаний хмыкнул, отворотил свечу, пошёл своим путём. Федька следом.
— Тогда, знатно, у тебя иной бог. Не тот, что у нас у всех.
— Пошто иной?! — насторожился Федька. — Как у всех... Единый и Всемогущий, во Троице славимый!
— А пото, — приостановился Епифаний, — что наш Бог заповедовал: не прелюбодействуй.
— Эко прелюбодейство? Блажь! Не жену же чужую... Девку челядную.
— Про чужую жену — уж иная заповедь. Не желай жены ближнего, ни раба его, ни рабыни... Ты же нарушил и сию заповедь.
— Бога ради, святой отец, государю не вздумай открыть, — встревожился Федька. — Не дошло у нас с ней до греха-то... Не дошло!
— Лжеши, однако. И тем новую заповедь преступаешь. А и не лжеши, всё едино прелюбодей еси, занеже речено Господом: всяк смотряй на жену с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своём.
— Ух и въедлив же ты, святой отец, — сказал с весёлым удивлением Федька, стараясь придать шутливый тон своим словам. — Как тебя токмо государь терпит?
Епифаний не удостоил его ответом, невозмутимо, чинно продолжал свой путь, и чувствовалось, что ему в общем-то нет никакого дела до Федькиного грехопадения. Федька был таким же отродьем, как и все, и душа его нисколько не беспокоила Епифания — пусть низвергается в геенну.
Федька и сам не больно беспокоился о своей душе. Мысль о том, что поп может открыть его прелюбы парю или — не приведи Господи! — самой царице, беспокоила его куда больше, и он, подталкиваемый этим беспокойством, пытался если и не оправдаться, то хотя бы настроить Епифания на иной лад, пробудить в нём снисходительность, воззвать к терпимости.
— Нешто всем быть монахами? О том и в Писании нигде не написано, чтоб всем быть монахами.
— Написано: попечение о плоти не превращайте в похоть.
— Так я же о ней и пекусь, — обрадовался Федька неожиданному доводу. — О ней, проклятой! А не о похоти вовсе!
— На Фоминой неделе аз тебя брачным совокуплением сочетал. Брак и есть попечение... Всё иное — блуд и похоть.
— Сочетать-то сочетал... Ещё скажи: медовый месяц у меня. Верно, медовый... А спроси, сколько раз я того мёду отведал? Единый всего раз. Понеже... как те всегнусные Оболенские взъярились на государя, неотлучно при нём — и днём и ночью. На единую токмо ночь и отлучался... А плоть-то требует своего, донимает, проклятая!
— Речено Господом: ежели правый глаз соблазняет тебя, вырви его, и ежели правая рука соблазняет — отсеки её. Ибо лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, неже всё тело твоё ввергнется в геенну, — невозмутимо изрёк Епифаний.
— Руку я, буде, и отсёк бы! — засмеялся Федька. — Руки у меня две, и глаза два...
— Паче скажи: где тех рук да глаз набратися?
— А и то верно! — согласился Федька уже с откровенной беспечностью, решив, что раз Епифаний перешёл на шутки, значит, сердце его смягчилось и он не станет ни о чём рассказывать царю. — Государь любит сказывать притчу: не грешит тот, кто гниёт!
— Почто же тогда страшишься государя, коль следуешь его мирским заповедям?
— Да мало ли... Нетто я его нрава не ведаю?